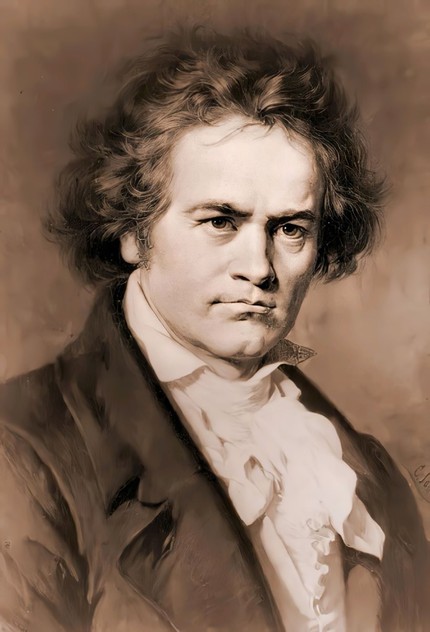Overtures
Особую ветвь в симфоническом творчестве Бетховена образуют его одиннадцать увертюр.
Связанная с сюжетом, с театральной образностью, увертюра XVIII века (Глюка, Моцарта, Керубини) сформировалась как своеобразный программный жанр симфонической музыки классицизма. Она обладала исключительной доходчивостью, широтой воздействия. Эти черты усилились и получили еще более отчетливое выражение в увертюрах Бетховена.
Содержание и стиль бетховенских увертюр определяется избранными им театральными сюжетами (За исключением «Именинной увертюры» ор. 115 (1814), которая не предназначалась для театральной постановки. Кстати, она оказалась и наиболее слабой из увертюр Бетховена.). Мифологические парадно-торжественные сюжеты не вдохновляли композитора. Четыре лучшие увертюры Бетховена — «Кориолан» c-moll (1806), «Леонора» № 2 C-dur (1805), «Леонора» № 3 C-dur (1806), «Эгмонт» f-moll (1810) — были созданы к драмам на гражданско-героические темы. Именно в этих выдающихся произведениях мирового симфонического репертуара и определился тип бетховенской увертюры.
Бетховен обычно дает в ней обобщенное выражение главной идеи театральной пьесы; это почти всегда идея трагического конфликта, связанная с освободительным движением народа или с борьбой сильной личности. Таково, в частности, содержание увертюры «Эгмонт», быть может, наиболее яркого программного произведения композитора. В музыке не нашли отражения ни женские образы пьесы Гёте, ни тема любви Эгмонта и Клерхен. Здесь развит только мотив борьбы народа с чужеземными угнетателями, вера в победу светлых сил.
В увертюре «Кориолан» (к драме Коллина) Бетховен с подлинно шекспировской страстностью раскрывает трагический конфликт между чувством гражданского долга и личными побуждениями героя. По идее и по музыкально-выразительным приемам это произведение напоминает глюковские увертюры (в частности, к опере «Ифигения в Авлиде»).
Увертюры к «Леоноре» воспроизводят основные героические мотивы бетховенской оперы, ее благородный гражданский пафос.
Таким образом, увертюры Бетховена — не столько вступления к театральному спектаклю, сколько самостоятельные инструментальные драмы (Не случайно Бетховен сам отверг яркие увертюры «Леонора» № 2 и № 3 в качестве вступлений к своей опере и заменил их гораздо менее драматичной увертюрой к «Фиделио».). Но, при всей обобщенности, трактовка содержания в них несколько иная, чем в симфониях.
Отличительная особенность бетховенских увертюр — образная конкретность и яркая театральность.
В статье «Тематизм увертюры „Леонора"» А. Н. Серов показал, насколько тесно связана музыка увертюры с интонационной характеристикой основных образов бетховенской оперы.
Театральный характер увертюры определил особенности ее сонатной формы. Экспозиционность в ней преобладает над разработочностью. Бетховен стремится к столкновению, к непосредственному сопоставлению ярко контрастных тем. Обычно каждая увертюра, в том числе вступление и связующая часть (которая в симфониях ранних венских классиков являлась лишь производной от главной), самостоятельна, мелодически ярка и создает определенный программный образ.
Последовательность тематизма отражает не только закономерности сонатной формы, но и общие контуры драматического действия.
Так, например, увертюра к «Эгмонту», в соответствии с сюжетом, завершается ликующей мажорной кодой, построенной на торжественных фанфарах из музыки финала драмы, а увертюра к «Кориолану», рисующая душевно надломленного героя, заканчивается «разорванными», замирающими фрагментами главной темы:
В увертюре «Леонора» № 3 как отражение главной идеи произведения и переломного момента действия в разработку вторгается тот радостный звук трубы, который в опере означает приближение освободителей.
По сравнению с сонатными allegro симфоний, увертюра лаконичнее, развитие в ней проще, драматургия ее в целом более сжата, изобилует контрастами.
Темы бетховенских увертюр отличаются особенной выпуклостью и образно-театральной конкретностью. Они большей частью основаны на «отстоявшихся» оборотах, связанных с образами движения (марша, танца) и с интонациями оперной музыки (возгласы, мотивы жалобы, декламационно-речитативные обороты и т. п.). Театральность отразилась и на их музыкальной структуре. Они часто содержат контрастные элементы или строятся как «диалог».
Так, например, в «Эгмонте» образ испанских угнетателей выражен тяжеловесным мотивом сарабанды (старинного испанского придворного танца), который пронизывает темы вступления и побочной партии:
«Отвечающий» хроматический мотив (обе темы построены как диалог) с характерными мелодическими «вздохами» непосредственно связан с интонациями оперных «арий жалобы»:
Торжественные фанфары коды восходят к типичным «героическим интонациям» массовых жанров Французской революции.
Точно так же трагические темы «Кориолана» впитали в себя характерные интонации скорби из оперных лирических трагедий. Можно сравнить, например, тему из «Кориолана» с темой страха и скорби из «Ифигении в Авлиде» Глюка:
Бетховен завершил эволюцию классицистской увертюры, придав этому жанру огромное художественное значение. При этом он открыл путь для новых программно-симфонических жанров. На яркие программные черты бетховенской увертюры опирались композиторы-романтики, создавшие концертные увертюры и симфонические поэмы, типичные для музыки последующей эпохи.
В. Д. Конен
Увертюры Бетховена:
К балету — «Творения Прометея» (ор. 43, 1800-1801)
К трагедии «Кориолан» Коллина (c-moll, op. 62, 1807)
Леонора No. 1 (C-dur, op. 138, 1805)
Леонора No. 2 (C-dur, op. 72, 1805)
Леонора No. 3 (C-dur, op. 72, 1806)
К опере «Фиделио» (Е-dur, op. 72, 1814)
К трагедии «Эгмонт» Гёте (f-moll, op. 84, 1809-1810)
К пьесе «Афинские развалины» Коцебу (G-dur, op. 113, 1811)
К пьесе «Король Стефан» Коцебу (Es-dur, op. 117, 1811)
«Именинная увертюра» (Zur Namensfeier, C-dur, op. 115, 1814)
«Освящение дома» (Die Weihe des Hauses, C-dur, сл. К. Майсля, ор. 124, 1822)