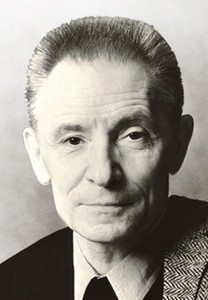Полемические заметки о возобновлении в Большом театре балета «Иван Грозный»
Продолжаем разговор о габтовском «Иване Грозном». Сегодня слово Александру Курмачёву с его детальным анализом и бережным отношением к наследию Григоровича.
Возобновление балета Прокофьева-Григоровича-Вирсаладзе-Чулаки «Иван Грозный» в Большом театре России произвело в околокультурной среде шевеление едва ли не более экстатичное, чем сама премьера, состоявшаяся 37 лет назад. Упрёки в эстетической архаичности этого балета, в конъюнктурности его «идеологии», в непосильной сложности для молодого поколения прозвучали едва ли не во всех критических обзорах, появившихся в центральной прессе и веб-СМИ сразу после генеральной репетиции спектакля.
И ведь неслучайно (!) практически ни в одной «официальной» рецензии невозможно найти вразумительных оценок работы оркестра театра, тогда как вся пластическая архитектоника этого спектакля буквально вырастает из экспрессивной мощи прокофьевского шедевра. Но дело даже не в том, что спектакль Григоровича не заслуживает выдвинутых против него упрёков, а в том, что
в основе этих претензий — критическое непонимание нашими критиками как сути этого произведения, так и творческого почерка Григоровича в целом.
Если игнорировать философскую подоплёку спектаклей одного из величайших реформаторов классического балета XX века, то внутри останутся только спортивные поддержки и акробатические трюки, исполнение которых лишает солистов до четырех килограммов живого веса за спектакль, а также много-много беготни по сцене в приглушенно усыпляющем, лаконично-минималистичном оформлении Симона Вирсаладзе.
В принципе, на молекулярные составляющие можно разъять любой шедевр,
а уж если вспомнить о том, что боярские шубы в «Иване Грозном» сшиты из простой мешковины, то еще и вдоволь поглумиться. Но проблема в том, что сами авторы критических разборов не усматривают в своих инвективах очевидной однобокости такого угла рассмотрения. О своём понимании,
что за этим стоит, — коммерческая ангажированность или искренняя личная недалёкость, — я скажу чуть позже.
Сейчас важно другое, а именно то, что обыватель вынужден верить печатной ахинее, а зритель, читающий такие разборы, сталкивается с ситуацией своеобразного разрыва картины мира, так как, судя по овациям, которых удостоились премьерные показы спектакля,
простому посетителю Большого театра «Иван Грозный» нравится, тогда как профессиональные критики его почему-то ругают на чем свет стоит.
В принципе, ситуация не новая, но в дураках тут оказываются именно критики, а не публика, и вот почему.
Как правило, противоречие между «профессиональной» и «любительской» оценками лежит в зоне адекватности считывания «простого/сложного» в художественном произведении. То есть, по логике вещей, профессионал чувствует сложное тоньше и воспринимает его корректнее, чем любитель, тогда как любителю априори приписывается зависимость от популярной доступности того или иного произведения или отдельного его компонента, специально растиражированного или просто легко запоминающегося.
Но ситуация с балетом «Иван Грозный» для нашей пишущей братии усугубляется тем, что
по своей сложности это произведение далеко не «Щелкунчик», и даже не «Лебединое озеро»:
чего только стоит «рваная» экспрессивная эквилибристика темпов, раскатистые крещендо в сочетании с медитативными напевами самой партитуры балета, сотканной из пяти разных произведений Прокофьева Михаилом Чулаки… А этот мрачный, отнюдь не лёгкий для восприятия декор, не говоря уж о самом содержании спектакля, в котором представлены (вдумайтесь только!) и коронация, и царские смотрины, и битва с захватчиками, и народные гуляния, и болезнь царя, и боярский заговор с целью захвата престола, и отравление царицы, и учреждение опричнины и даже символическое финальное распятие главного героя на связке колокольных верёвок! И всё это посредством кордебалетных ансамблей в сопровождении трех пространных дуэтов и восьми хореографических монологов, не имеющих с «балетной развлекающей составляющей» ничего общего, — никаких тридцати двух фуэте, никаких волнительных непрерывных па-де-бурре и т.п. пользующихся спросом популярностей.
Получается, если наисложнейший по своей структуре спектакль воспринимается простым зрителем с воодушевлением, а профессиональной критикой — с раздражением, значит,
простой зритель видит в сложном спектакле то, что профессиональной критике, изможденной своим родом деятельности, видеть уже не удаётся?
Но всё это похоже на какой-то культурологический абсурд, потому что если это так, мы вынуждены признать, что наша балетная критика просто сошла с ума. Ну, и кто в это поверит? После триумфальной серии премьерных показов стало очевидно, что каждый нормальный человек (не-критик!) смог найти в этом спектакле что-то по-настоящему ценное для себя, что-то цепляющее и трогающее до слёз. На мой взгляд, наиболее важными моментами для понимания успеха этого произведения Григоровича являются следующие.
Прежде всего, «Иван Грозный» (как, впрочем, и многие другие спектакли Григоровича) —
это не столько балет в традиционном понимании этого вида развлечений, сколько философская притча, рассказанная языком классического танца.
Здесь, возражая между делом на упрёки хореографа в самоповторах, замечу, что классический танец сам по себе конечен и примитивен по номенклатуре доступных ему выразительных средств так же, как любой «алфавит», как любая законченная знаковая система. И уже по этой причине негодовать на то, что Григорович в «Иване Грозном» использовал пару пластических самоцитат из «Спартака», — это то же самое, что упрекать Достоевского в частом повторении одних и тех же слов и фраз. Проще говоря,
не повторяться в классическом танце невозможно, и уж критики-балетоведы должны это знать.
На первый взгляд, хореографический язык «Ивана Грозного» сложен и примитивен одновременно: прыжковая зрелищность в нём сочетается с прямолинейной жестикуляцией, а широкое использование grand-jete — с приглушенностью ballon и акцентированием elevation, без которых у Григоровича, вообще говоря, ни одну мужскую партию станцевать невозможно. Но для любого человека, знакомого с историей балета, эта особенность почерка балетмейстера — настоящая революция, предпосылки которой возникли благодаря активному усложнению классического танца А. Я. Вагановой в Петербурге и А. А. Горским в Москве.
Интересно то, что за всей этой полётностью, возведенной Григоровичем во главу собственного повествовательного стиля, нет и тени самодостаточного трюкачества: всё оно так или иначе подчинено выражению драматической сверхзадачи. Так вот
о дешифровку этой сверхзадачи подавляющее большинство балетных критиков и расшибают свои высокие лбы,
в отличие от простых зрителей, непосредственность восприятия которых и позволяет им пережить тот эвристический катарсис, без которого ни одно произведение искусства не может войти ни в зрительскую память, ни тем более в историю.
А драматургические сверхзадачи именно у этого спектакля Григоровича — поистине фантастические!
В отличие от «Спартака», где вся композиция образов (да и стиль повествования) чётко делится на чёрное и белое (оборотная сторона цивилизации, против бесчеловечности которой в борьбе за свою жизнь восстают древнеримские «гастарбайтеры», — проблема ясная и понятная), коллизия «Ивана Грозного» закручивается вокруг феноменальной внутренней диалектики образа царя-бандита, который с юности отличался непостижимой кровожадностью и диким нравом.
С самого начала в спектакле Григоровича мы видим на престоле властного демона и нисколько не обольщаемся на предмет его «наивной юношеской невинности», ибо пластика уже первого монолога Ивана Грозного такого заблуждения не допускает. Но вдруг: перед нами предстаёт образ любящего мужчины!
Линия смягчающего и вдохновляющего влияния царицы Анастасии на своего неврастеничного супруга чрезвычайно важна во всей драматургии спектакля, и именно ей посвящены три дуэта Ивана с Анастасией и страстный монолог царя после смерти жены. Именно из этого монолога человека, лишенного душевной (а, насколько можно судить по дошедшим до нас историческим источникам, и духовной) опоры,
вырастает совершенно уникальная богоборческая проблематика спектакля.
Неслучайно диагонали монологов Ивана IV строго заданы и переплетены с пластикой крёстного знамения, к которому царь стремится и от которого одновременно уклоняется. Утрата царём веры в справедливость и милосердие власти Бога на Земле оборачивается отождествлением собственной власти с неподсудной безнаказанностью, развязыванием кровавого террора как основы внутренней политики, карнавализацией собственного абсолютизма и открытым попранием установленных церковью законов и порядков. И всё это превращение мы видим в рамках двухминутного хореографического монолога! В каком ещё балете столь небольшой пластический этюд выражает такое количество сложнейших смыслов?
Бунт Ивана Грозного против власти бога — немыслимое художественное откровение!
И царский посох как символ бремени Власти, опьяняющей и раздавливающей своего носителя, в реквизитной символике спектакля вступает в оппозицию с невидимым символом Бога, к которому обращается в своем главном монологе Иван. Это откровение о несовместимости божественного начала с земной властью, до сих пор звучащее в спектакле Григоровича настоящим набатом, не было считано как в середине семидесятых годов прошлого века, так и остаётся не отмеченным нашим балетоведением по сей день!
Интересно, что этот мощный религиозно-философский посыл выстраивается хореографом на базе глубочайшей личной трагедии главного героя, и психологическую достоверность если не портрета реального царя, то собирательного образа «правителей всех времен и народов» не оценить, казалось бы, невозможно. Однако наша критика умудряется не замечать и этого очевидного достоинства спектакля, тогда как масштаб трагических обобщений в образе Ивана Грозного, созданного Григоровичем, сопоставим с символическим масштабом главного героя, созданного Габриэлем Гарсия Маркесом в «Осени патриарха».
Однако даже очевидные «абстракции» не так поражают своей актуальностью, как возникающие именно здесь и сейчас общественно-политические параллели между происходящим на сцене и нашей текущей повседневностью.
Тем, кто знает этот спектакль, не нужно объяснять, какое
важное значение имеют в «Иване Грозном» образы трёх скоморохов, одетых художником С. Б. Вирсаладзе в уродливые… маски-балаклавы!
Танец этих персонажей на тронном подиуме, практически на алтаре Власти, за которым просвечивают скорбные иконописные лики, — освящается участием в этой жуткой оргии самого царя. Это он — главный шут, своими руками отправляющий на тот свет политических оппонентов, окружающий себя верными опричниками-убийцами и творящий суд по своему разумению… И именно
эти три шута в масках-балаклавах набросят в кульминационный момент на шею обессилевшему Ивану Грозному петлю на шею
и потянут за собой в вихрь эсхатологического смешения жизни и смерти, в круговорот дьявольского смещения представлений о добре и зле! Конечно, эти аналогии с текущей ситуацией — случайны, но именно они лишний раз подтверждают вневременную (если не пророческую!) ценность этого шедевра Григоровича, его современность и непреходящую актуальность. И то, что наша критическая пресса, в отличие от простого зрителя, не смогла рассмотреть в этом спектакле его животрепещущей насущности, говорит лишь о
крайне низком уровне нашей балетной критики, которая пытается анализировать философский трактат, используя беллетристический инструментарий.
Но если с непониманием современными критиками спектакля, созданного почти сорок лет назад и давно вошедшего в историю музыкального театра, можно хоть как-то смириться (в конце концов, у каждого свои герменевтические способности, и даже мой взгляд — взгляд человека, выросшего на балете «Иван Грозный» и знающего его наизусть, — не может претендовать на полную адекватность замыслу балетмейстера), то откровенный непрофессионализм в оценках работ исполнителей главных партий не лезет ни в какие ворота.
Когда я читаю, что Анна Никулина как-то не так станцевала партию Анастасии, то у меня сразу возникает вопрос: а так это — как? Как Бессмертнова? Как Сорокина? Как Семеняка? Как Михальченко? У всех знаменитых исполнительниц этой партии был сугубо свой образ. И это не просто нормально, — иначе вообще-то не бывает. В работе Никулиной, безусловно, не могла не отразиться страстная экспрессивность, свойственная лучшим работам её нынешнего педагога — выдающейся балерины XX века Людмилы Ивановны Семеняки. И уже по этой причине
говорить об эмоциональной прохладности Анастасии у Никулиной просто нелепо, а уж упрекать в этом балерину — откровенное невежество,
потому что лучшее исполнение этой партии Наталией Бессмертновой отличалось именно эмоциональной сдержанностью и изысканной отрешенностью. К технической стороне интерпретации, предложенной Анной Никулиной, человек, хорошо знающий этот «текст», даже при всём желании придраться не сможет.
Впрочем, техника была на высоте и у второй исполнительницы этой партии — Марии Виноградовой, хотя её прочтение отличалось несколько подчёркнутой эстетичностью в ущерб драматической углубленности.
Практически всем участникам премьеры, включая исполнителей сложных массовых ансамблей, удалось передать не только хореографический текст первоисточника, но и сам дух того самого спектакля, ставшего легендой. Почему этого не отметили критики, непонятно. Ведь есть общедоступные записи этого спектакля с участием не только «самого первого и самого главного» Ивана Грозного в истории этого балета — Юрия Владимирова, — но и более поздняя запись с Иреком Мухамедовым и практически совсем современная версия — с участием балета Парижской национальной оперы и Николя Ля Ришем в главной партии.
Элементарное визуальное сопоставление этих записей позволяет оценить, насколько драматическая глубина прочтения главных образов этого балета русскими артистами превосходит «зарубежные копии»,
даже при всём уважении к блестящей технической оснащенности французских танцовщиков. По этим же записям можно увидеть, насколько точно в возобновлении «Ивана Грозного» восстановлена хореографическая партитура спектакля, однако о странной аннотации «новой хореографической редакции» ни один из критиков даже не упомянул. И, наконец, именно эти записи позволяют по достоинству оценить оригинальность созданных образов в спектакле новым поколением артистов Большого балета.
Уверен, в творческой биографии Павла Дмитриченко роль Ивана Грозного станет заметной, если не самой важной вехой.
Артист создаёт ураганный образ необузданной страсти, истероидной экспрессии и шизофренической силы воли, и не заметить столь яркой самоотдачи рецензенты могли только в двух случаях: если они не были на спектакле или если они сидели в зале с закрытыми глазами. Не обладающий ни глянцевой смазливостью унисексуальной тошнотворности, растиражированной в современных балетных классах, ни атлетической брутальностью секс-символа озабоченных балетоманов, Павел Дмитриченко никак не должен был вписаться в этот спектакль, но то, что артист сделал с этим образом под руководством балетмейстера и с помощью одного из прекрасных исполнителей партии Ивана Грозного — своего педагога Александра Ветрова, — напомнило мне о самых ярких выступлениях Ирека Мухамедова, Алексея Фадеечева и самого Ветров. Внятная проговоренность каждого жеста, осмысленность каждого поворота головы, музыкальность каждой пластической фразы осенялись такой неправдоподобной искренностью, что даже некоторые технические огрехи, связанные, прежде всего, со сложностью самой партии, и случайная вольность в одной дуэтной мизансцене во втором спектакле премьерной серии уже не могли повлиять на восторженный приём зрителей.
Не менее мощно и технически ярко сделал главную роль Михаил Лобухин:
его исполнение отличалось монументальной широтой размаха, удлиненностью хореографических фраз и пластических жестов, но наиболее всего, на мой взгляд, артисту удались жесткие психологические (здесь было бы уместнее написать «психиатрические») акценты. В знаменитом финале первого акта, когда Грозный пресекает попытку бояр захватить престол заболевшего государя, артист буквально приподнимает за горло наиболее изворотливого претендента, будто вынимая изменника из объятий царского трона. Кстати, в этой сцене царь Лобухина не садится, а остаётся стоять, словно защищая престол всей своей мощной фигурой. Надо заметить, что в интерпретации Лобухина вольностей в прочтении оригинального текста намного больше, чем в прочтении Дмитриченко: что-то было чуть упрощено в сцене битвы, что-то, напротив, было усложнено в поминальном монологе Ивана, — но в целом артиста совершенно не в чем упрекнуть, и это исполнение Грозного нельзя не признать серьёзной актёрской удачей.
Если говорить о партии Князя Курбского, драматургическая сложность которой не уступает партии Ивана Грозного, то, на мой взгляд, оба исполнителя этой роли —
и Денис Родькин, и Юрий Баранов — продемонстрировали блестящее владение как техническим материалом, так и стилем спектакля, и у обоих получилось создать совершенно не похожие друг на друга образы.
Так, Князь у Дениса Родькина радостно самоуверен в первом выходе бояр, а властная усмешка в сочетании с аккуратной, мягкой поступью и строгой графичностью линий придают хореографическому рисунку уникальный пластический акцент, который особенно заметен в сложных драматических кульминациях. Говоря о той лёгкой виртуозности, с которой Денис Родькин решает непростые драматические задачи этой роли, невозможно не упомянуть имени педагога танцовщика — выдающегося артиста Николая Цискаридзе.
Юрий Баранов в этой же партии подчеркнул своеобразную рефлекторную замкнутость своего героя: в его Курбском нет ни разухабистой отваги блестящего характерного танцовщика 80-х Гедиминаса Таранды, ни мятущегося благородства, которым отличалась эта роль в исполнении незабываемого Андриса Лиепы. В нём что-то от задумчивого интеллигента, который склонен больше недоумевать, чем активно действовать, и в его * монологах* не так много страха или подлинного отчаяния: в них больше взвешенной безысходности в регистре «ce la vie», но — не смирения. Именно поэтому из технической внятности хореографического текста, прекрасно переданного Барановым, противоречивые оттенки, смыслы и интонации, заложенные балетмейстером в этот образ, вырастают как бы сами собой, усиливая объемность и многоплановость этой интерпретации.
К сожалению, я не видел других исполнительских составов в этом спектакле, но уверен, что если кордебалет во всей серии показов «прозвучал» столь же слаженно и одновременно экспрессивно, как в тех представлениях, которое мне удалось посетить, сильные эмоции всем зрителям были обеспечены.
И в который раз, вслед за многими известными исследователями балетной эстетики Ю. Н. Григоровича, должен заметить, что
говорить о спектаклях Юрия Николаевича в отрыве от их музыкальной первоосновы невозможно.
Если в критике какого бы то ни было спектакля Григоровича нет ни слова о музыке, на которую балетмейстером были сочинены танцы, эта критика изначально безграмотна и принимать её во внимание в большинстве случаев не стоит. А чтобы понять это, достаточно вспомнить историю партитур, воплощенных в хореографические образы Григоровичем: за редчайшим исключением, после него никто ничего нового не смог создать не только на музыку «Каменного цветка» С. Прокофьева, «Легенды о любви» А. Меликова, «Спартака» А. Хачатуряна и «Золотого века» Шостаковича, но даже альтернативные сценические редакции «Щелкунчика» Чайковского и «Ромео и Джульетты» того же Прокофьева выглядят поверхностной иллюстративностью, лишенной глубинного понимания драматической природы этих партитур.
Спектакли Григоровича — недосягаемо музыкальны, ибо их грубоватая пластичность не выглядит тенью или эхом ритмической или мелодийной канвы, как у большинства хореографов (как легендарных, так современных). Напротив, она словно вырастает из самого нерва музыкального произведения, впитывая и воплощая в себе его эмоциональную стихию. Наверное,
именно поэтому хореография Григоровича так редко визуально эстетична, но абсолютно всегда — музыкально выразительна.
Конечно, сама по себе музыка Прокофьева к кинофильму С. Эйзенштейна образна и, по-своему, театральна, но хореографической самодостаточностью, безусловно, не обладает. И в том, что её иллюстративная приуроченность была переплавлена в балетную партитуру, в которой многие её страницы не просто заиграли новыми красками, а буквально обрели новое мощное смысловое звучание, — заслуга именно балетмейстера! Насколько мне известно, ни одному хореографу в истории балета не удавалось сделать с музыкой, не созданной специально для балета, ничего подобного.
В исполнении оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева эта монолитность музыки Прокофьева и хореографии Григоровича получила новое звучание:
отдельные темы, часто забалтываемые даже в серьёзных записях, были акцентированы как самостоятельные изречения, чуть ли не как самоценные реплики, темпы были идеально выдержаны и корректны, а динамические акценты поражали своей уместной точностью и чистотой. В целом оркестр предложил совершенно новое, свежее прочтение этого материала, и уже один этот факт заслуживал бы всемерной поддержки и восхищения любого культурного человека.
Но наша критика и тут умудрилась показать себя в совершенно нелицеприятно: буквально на днях в эфире одной радиостанции слушателей убеждали в том, что компиляция из произведений Прокофьева, созданная тридцать семь лет назад авторами балета, — не соответствует духу музыки композитора… Комментарии, как говорится, излишни.
Именно поэтому свой обзор, посвященный выдающейся работе творческих коллективов Большого театра, я вынужден завершить на грустной ноте неутолимого разочарования профессиональной предвзятостью наших журналистов.