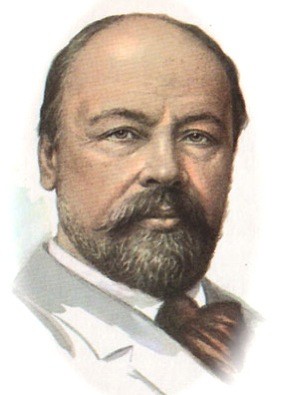• Список сочинений и литература
...Лядов скромно отвел себе область миниатюры — фортепианной и оркестровой — и работал над ней с большой любовью и тщательностью ремесленника и со вкусом, первоклассного художника-ювелира и мастера стиля. В нем действительно жило прекрасное в национально-русском душевном облике.
Б. Асафьев
Анатолий Лядов принадлежит к младшему поколению замечательной плеяды русских композиторов второй половины XIX в. Он проявил себя как талантливый композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. В основе творчества Лядова лежат образы русского эпоса и песенного фольклора, сказочной фантастики, для него характерна проникнутая созерцательностью лирика, тонкое ощущение природы; в его произведениях встречаются элементы жанровой характеристичности и комизма. Музыке Лядова свойственны светлое уравновешенное настроение, сдержанность в выражении чувства, лишь иногда прерываемые страстным, непосредственным переживанием.
Большое внимание Лядов уделял совершенствованию художественной формы: непринужденность, простота и изящество, стройная соразмерность — вот его высшее критерии художественности. Идеалом ему служило творчество М. Глинки и А. Пушкина. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им произведения и потом записывал сочиненное начисто, почти без помарок.
Излюбленная музыкальная форма Лядова — небольшая инструментальная или вокальная пьеса. Композитор в шутку говорил, что он не выносит больше пяти минут музыки. Все его сочинения — это миниатюры, лаконичные и отточенные по форме. Творчество Лядова невелико по объему, кантата, 12 сочинений для симфонического оркестра, 18 детских песен на народные слова для голоса с фортепиано, 4 романса, около 200 обработок народных песен, несколько хоров, 6 камерно-инструментальных сочинений, свыше 50 пьес для фортепиано.
Лядов родился в музыкальной семье. Его отец был дирижером Мариинского театра. Мальчик имел возможность слушать в концертах симфоническую музыку, часто бывать в оперном театре на всех репетициях и спектаклях. «Глинку он любил и знал наизусть. „Рогнедою“ и „Юдифью“ Серова восхищался. На сцене он участвовал в шествиях и толпе, а приходя домой, изображал перед зеркалом Руслана или Фарлафа. Певцов, хора и оркестра он наслушался вдосталь», — вспоминал Н. Римский-Корсаков.
Музыкальная одаренность проявилась рано, и в 1867 г. одиннадцатилетний Лядов поступает в Петербургскую консерваторию. Практическим сочинением он занимался у Римского-Корсакова. Однако за пропуски занятий и недисциплинированность в 1876 г. он был исключен. В 1878 г. Лядов вторично поступает в консерваторию и в этом же году блестяще сдает выпускной экзамен. В качестве дипломной работы им была представлена музыка к заключительной сцене «Мессинской невесты» Ф. Шиллера.
В середине 70-х гг. Лядов знакомится с членами балакиревского кружка. Вот что писал Мусоргский о первой встрече с ним: «...Появился новый, несомненный, оригинальный и русский юный талант...» Общение с крупнейшими музыкантами оказало большое влияние на творческое формирование Лядова. Расширяется круг его интересов: философия и социология, эстетика и естествознание, классическая и современная литература. Насущной потребностью его натуры было размышление. «Клюйте из книги то, что Вам нужно, и развивайте это на свободе, и тогда Вы узнаете, что значит думать», — писал он позже одному из своих друзей.
С осени 1878 г. Лядов становится педагогом Петербургской консерватории, где ведет теоретические дисциплины у исполнителей, а с середины 80-х гг. преподает и в Певческой капелле. На рубеже 70-80-х гг. Лядов начал дирижерскую деятельность в Петербургском кружке любителей музыки, а позже выступил как дирижер в общедоступных симфонических концертах, учрежденных А. Рубинштейном, а также в Русских симфонических концертах, основанных М. Беляевым. Его дирижерские качества высоко ценили Римский-Корсаков, Рубинштейн, Г. Ларош.
Музыкальные связи Лядова расширяются. Он знакомится с П. Чайковским, А. Глазуновым, Ларошем, становится участником «беляевских пятниц». В это же время он приобретает известность и как композитор. С 1874 г. выходят в свет первые произведения Лядова: 4 романса ор. 1 и «Бирюльки» ор. 2 (1876). Романсы оказались единственным опытом Лядова в этом жанре, они были созданы под влиянием «кучкистов».
«Бирюльки» — первое фортепианное сочинение Лядова, представляющее собой серию мелких разнохарактерных пьес, объединенных в законченный цикл. Уже здесь определяется лядовская манера изложения — камерность, легкость, изящность. До начала 1900-х гг. Лядовым было написано и издано 50 опусов. Большинство из них — небольшие фортепианные пьесы: интермеццо, арабески, прелюдии, экспромты, этюды, мазурки, вальсы и др.
Широкую популярность завоевала «Музыкальная табакерка», в которой с особой тонкостью и изысканностью воспроизводятся образы кукольно-игрушечного мирка. Из числа прелюдий особенно выделяется Прелюдия си минор ор. 11, мелодия которой очень близка народному напеву «И что на свете прежестоком» из сборника М. Балакирева «40 русских народных песен».
К наиболее крупным произведениям для фортепиано относятся 2 вариационных цикла (на тему романса Глинки «Венецианская ночь» и на польскую тему). Одной из известнейших пьес стала баллада «Про старину». Это сочинение близко эпическим страницам оперы Глинки «Руслан и Людмила» и «Богатырской» симфонии А. Бородина. Когда в 1906 г. Лядов сделал оркестровую редакцию баллады «Про старину», В. Стасов, услышав ее, воскликнул: «Настоящего баяна Вы тут вылепили».
В конце 80-х гг. Лядов обратился к вокальной музыке и создал 3 сборника детских песен на тексты народных прибауток, сказочек, припевок. Ц. Кюи назвал эти песни «крошечными жемчужинами в самой тонкой, законченной отделке».
С конца 90-х гг. Лядов с увлечением занимается обработкой народных песен, собранных экспедициями Географического общества. Особенно выделяются 4 сборника для голоса с фортепиано. Следуя традициям Балакирева и Римского-Корсакова, Лядов широко пользуется приемами подголосочной полифонии. И в этой форме музыкального творчества проявляется типичная лядовская черта — камерность (он использует минимальное количество голосов, которые образуют легкую прозрачную ткань).
К началу XX в. Лядов становится одним из ведущих и авторитетных русских музыкантов. В консерватории к нему переходят специальные теоретические и композиторские классы, среди его учеников С. Прокофьев, Н. Мясковский, Б. Асафьев и др. Смелым и благородным можно назвать поведение Лядова в 1905г., в период студенческих волнений. Далекий от политики, он безоговорочно примкнул к передовой группе преподавателей, протестовавших против реакционных действий РМО. После увольнения из консерватории Римского-Корсакова Лядов вместе с Глазуновым заявил о своем выходе из состава ее профессоров.
В 1900-х гг. Лядов обращается преимущественно к симфонической музыке. Он создает ряд произведений, продолжающих традиции русской классики XIX в. Это оркестровые миниатюры, сюжеты и образы которых подсказаны народными источниками («Баба-Яга», «Кикимора») и созерцанием красоты природы («Волшебное озеро»). Лядов называл их «сказочными картинками». В них композитор широко использует колористические и живописные возможности оркестра, следуя по пути Глинки и композиторов «Могучей кучки». Особое место занимают «Восемь русских народных песен для оркестра», в которых Лядов мастерски использовал подлинные народные напевы — эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные, выразив разные стороны духовного мира русского человека.
В эти годы Лядов проявлял живейший интерес к новым литературным и художественным течениям, и это нашло отражение в его творчестве. Он пишет музыку к пьесе М. Метерлинка «Сестра Беатриса», симфоническую картину «Из Апокалипсиса» и «Скорбную песнь для оркестра». В числе последних замыслов композитора — балет «Лейла и Алалей» и симфоническая картина «Купальская ночь» по мотивам произведений А. Ремизова.
Последние годы жизни композитора были омрачены горечью утрат. Лядов очень остро и тяжело переживал потерю друзей и соратников: один за другим ушли из жизни Стасов, Беляев, Римский-Корсаков. В 1911 г. Лядов перенес тяжелую болезнь, от которой уже не смог оправиться полностью.
Ярким свидетельством признания заслуг Лядова явилось празднование в 1913 г. 35-летнего юбилея его творческой деятельности. Многие его сочинения и поныне пользуются широкой популярностью и любовью слушателей.
А. Кузнецова
Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.
Лядов Анатолий Константинович (29 IV (11 V) 1855, Петербург — 15 (28) VIII 1914, усадьба Полыновка, близ г. Боровичи, ныне Новгородской обл.) — русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.
С детства занимался музыкой под руководством отца — дирижёра Мариинского театра К. Н. Лядова и пианистки В. А. Антиповой. В 1878 окончил Петербургскую консерваторию по классу композиции Н. А. Римского-Корсакова (экзаменационная кантата — «Мессинская невеста» по Ф. Шиллеру). В середине 70-х гг. вошёл в состав Балакиревского кружка как младший представитель (наряду с А. К. Глазуновым) «Новой русской музыкальной школы», в начале 80-х гг. — Беляевского кружка. Был одним из художественных руководителей беляевского издательского и концертного дела, входил в Попечительный совет для поощрения русских композиторов и музыкантов (с 1904).
На рубеже 80-х гг. начал дирижёрскую деятельность, выступал в концертах Петербургского кружка любителей музыки, Музыкально-драматического кружка, в Русских симфонических концертах с исполнением произведений М. И. Глинки, «кучкистов», П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. Н. Скрябина (ранние симфонии), а также зарубежных композиторов. С 1878 преподаватель Петербургской консерватории (обязательные музыкально-теоретические предметы, с 1900 — специальные теоретические классы и композиция; с 1886 профессор). Одновременно (с 1884) преподавал в Придворной певческой капелле. Среди его учеников — композиторы Б. В. Асафьев, M. P. Гнесин, В. А. Золотарёв, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, В. В. Щербачёв; музыковеды В. М. Беляев, А. В. Оссовский; дирижеры М. А. Бихтер, Н. А. Малько, А. М. Пазовский, Л. П. Штейнберг; оперные певцы П. З. Андреев, И. В. Ершов и др.
До начала 1900-х гг. основу творчества Лядова составляли фортепианные произведения, преимущественно пьесы малых форм, чаще — непрограммные (прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты, этюды, полифонические сочинения), встречались также программные пьесы пейзажного и характеристического склада («Пастораль», «Музыкальная табакерка»). Немногочисленны более крупные произведения: одночастные композиции («Новинка», «Про старину», «Баркарола») и фортепианные циклы, состоящие из серии законченных миниатюр (сюита «Бирюльки», «Вариации на тему Глинки», «Вариации на народную польскую тему»).
В фортепианном творчестве Лядова оригинально претворены некоторые характерные черты фортепианной музыки Ф. Шопена и Р. Шумана; в то же время произведения Лядова ярко национальны, по своей поэтической основе и музыкальному языку они родственны музыке Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского. В них встречаются образы русского песенного фольклора, былины, сказочной фантастики, звучат подлинные народные мелодии. Лирика Лядова, обычно светлая и уравновешенная по настроению, характеризуется сдержанностью, «застенчивостью» высказывания, ей чужды пылкая патетика и драматизм. Отличительной особенности фортепианного стиля Лядова — экономия средств, изящество и прозрачность звуковой ткани, преобладание мелкой техники, тонкая тембровая нюансировка.
Среди немногочисленных вокальных произведений Лядова выделяются «Детские песни» для голоса с фортепиано на народные слова (ор. 14, 18, 22). Эти песни, преемственно связанные с творчеством Мусоргского (в частности, с циклом «Детская»), в жанровом отношении нашли продолжение в вокальных миниатюрах (на народные слова) И. Ф. Стравинского.
В конце 1890 — начале 1900-х гг. Лядов создал свыше 200 обработок народных песен для голоса с фортепиано и других исполнительских составов (женский, мужской и смешанный хоры, вокальный квартет, женский голос с оркестром). Сборники Лядова (большей частью в них использованы записи участников песенных экспедиций Русского географического общества) стилистически примыкают к классическим обработкам Балакирева и Римского-Корсакова. В сборниках отобраны старинные крестьянские песни и сохранены их музыкально-поэтические особенности.
Для обработок Лядова характерны: «облегчённая» фактура, подголосочно-полифонический тип сопровождения, выразительная «подача» деталей поэтического текста и напева, законченность камерного стиля. Своего рода итогом и кульминацией работы над песенным фольклором явилась сюита «Восемь русских народных песен» для оркестра (издана в 1906), развивающая традиции народно-жанрового симфонизма Глинки («Камаринская») и композиторов «Могучей кучки» (увертюры на русские народные темы Балакирева и Римского-Корсакова).
Последнее десятилетие жизни Лядова (1905–14) — время наивысшей творческой активности композитора. В эти годы созданы наиболее яркие и стилистически интересные произведения. Преобладает симфонический жанр (до того оркестровые партитуры были исключением): «Восемь русских народных песен», программные оркестровые «картинки» сказочного содержания — «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», а также симфоническая картина «Из Апокалипсиса», две миниатюры — «Танец амазонки» (написан для балерины Иды Рубинштейн) и «Скорбная песнь» («Nenie»; род лирической оркестровой прелюдии — фрагмент симфонической сюиты, задуманной под впечатлением от пьесы «Аглавен и Селизетта» Метерлинка).
Для этого периода характерен также интерес Лядова к музыкальному театру (ранее нетипичная для его творчества сфера; единственное исключение — эскизы к опере «Зорюшка», 1880): музыка к пьесе «Сестра Беатриса» Метерлинка (три женского хора), замыслы балетов «Жар-птица», «Лейла и Алалей».
Композитор оставался поклонником классически ясного искусства Пушкина и Глинки, гармонии чувства и мысли, изящества и законченности художественной формы. Вместе с тем Лядов откликнулся на эстетические устремления своего времени, сблизился и вошёл в творческие контакты с представителями новейших литературных и художественных течений (поэт С. М. Городецкий, писатель А. М. Ремизов, художники Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, А. Я. Головин, театральный деятель С. П. Дягилев), обратился к творчеству М. Метерлинка, к мистико-эсхатологической тематике («Из Апокалипсиса»). Неудовлетворённость окружающей буржуазной действительностью не побуждала Лядова к поискам социальной проблематики в творчестве, он рассматривал искусство как замкнутый в себе идеальный мир высшей красоты, истины, добра.
Произведения последнего десятилетия творчества перекликаются с программно-характеристическим и народно-жанровым симфонизмом Глинки и Даргомыжского, с симфоническими сказками и сказочно-эпическими операми Римского-Корсакова. Признаки нового проявились в сгущённо-гротесковом воплощении «злой» сказочности («Кикимора» и отчасти «Баба-Яга»), в особой таинственности, недосказанности и выразительной статике музыки («Волшебное озеро»), в неожиданном сближении строгой диатоники старинных напевов с изысканно-сложными гармониями (идущими от позднего Римского-Корсакова, Скрябина).
Новое художественное качество приобрела в этот период малая форма: его симфонические партитуры при всей сжатости композиции — не просто миниатюры, а сложные художественные организмы, в которых концентрированно выражено богатое музыкальное содержание. Для Лядова типично обращение к художественно ёмкому «микротематизму»: тема нередко заменяется попевкой, кратким образно-выразительным фигурационным рисунком, тембровой краской. Богатство тембрового колорита создаётся разнообразным применением отдельных небольших оркестровых «ансамблей», максимальной индивидуализацией каждого инструмента (большие оркестровые массы почти не участвуют в развитии музыкальной ткани). В симфонических произведениях Лядова сложились принципы камерного симфонизма — одного из характерных явлений в симфонической музыке нового времени.
Творчество Лядова — оригинальное явление русской музыкальной культуры. Находясь на скрещении различных стилистических тенденций, типичных для начала 20 века, оно как бы «сфокусировало» в себе некоторые их разнородные признаки и органично вошло в эволюцию отечественного дореволюционного искусства. Лучшие, исторически прогрессивные стороны наследия композитора получили развитие в творчестве советских композиторов (С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский).
А. И. Кандинский
Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.
• Список сочинений и литература