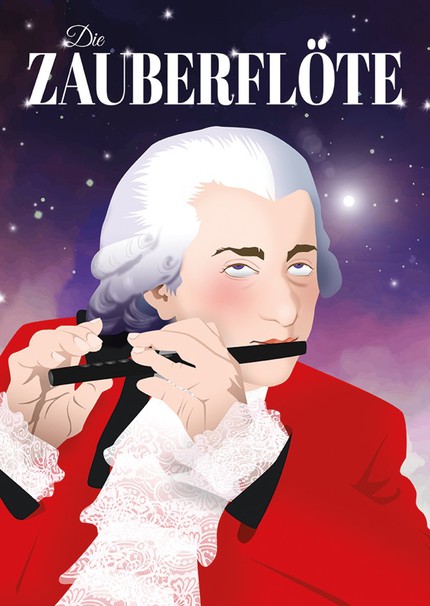
Конечно же, это не более чем случайность: в нынешнем году празднуют свои юбилеи многие наиболее знаменитые оперы-сказки прошлого столетия. Но коли так, то кажется все же символичным, что среди них — и «Волшебная флейта» Моцарта, открывшая, по существу, двери в романтический XIX век оперы — век «Фиделио», «Вольного стрелка», «Руслана и Людмилы», «Проданной невесты» и многих, многих других шедевров.
«Волшебная флейта» — как и многое у Моцарта — сочинение одновременно и прозрачное, и загадочное в своей внешней простоте и вместе с тем глубокой философичности, в контрасте между формой зангшпиля, отчасти уже архаичной для того времени (разговорные эпизоды, куплетные песни), и размахом, предвещающим романтическую оперу будущего. Да и вся история создания «Флейты» — тоже в чем-то загадка, хотя нет тут тех обстоятельств внешней таинственности, что сопутствовали — одновременно! — появлению «Реквиема».
Идея принадлежала Эммануэлю Шикандеру — приятелю Моцарта, либреттисту, артисту, режиссеру, драматургу, авантюристу, импресарио. Тогда — в самом начале девяностых годов XVIII века — он был широко известен в художественных кругах Вены, держал театр на окраине столицы — в Видене, которому грозил, казалось, неминуемый крах. Спасение виделось ему только в постановке спектакля, который принес бы гарантированные сборы. Изучив вкусы публики, Шикандер пришел к убеждению, что таким спектаклем должна стать «волшебная опера» — жанр, в то пору довольно распространенный. Но Шикандер задумал поднять его на новую высоту, придать ему увлекательность и пышность настоящей феерии и снабдить ее, конечно же, самой лучшей музыкой.
Такую музыку мог бы написать Моцарт — прославленный создатель «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана», влачивший в те дни существование бедняка, с трудом сводившего концы с концами, больной, подавленный морально недавними смертями близких, недугами жены. Но, может быть, именно поэтому он и не мог отвергнуть предложение легкомысленного Шикандера, сулившее материальный успех, хотя был по горло занят сочинением оперы «Милосердие Тита» для Праги и Реквиема для анонимного заказчика; сказалось, возможно, и то, что Моцарт, как и Шикандер, состоял членом масонской ложи.
Либретто Шикандер скроил довольно быстро, пользуясь сказочными источниками и канонами той поры. За основу он взял собрание сказок, составленное Виландом, и конкретно одну из них — «Лулу»; обрабатывая ее, он использовал также сюжет оперы Гейслера «Солнечный праздник браминов» и драмы Геблера «Тамос, король Египта». Получилась изрядная мешанина, не отличавшаяся логикой и стройностью сюжетных линий, но автора это не смущало. Более того, уже в процессе работы над музыкой произошло событие, заставившее его существенно перекроить свою пьесу. В Вене с успехом была поставлена опера довольно удачливого композитора Венцеля Мюллера «Волшебный цитрист, или Каспар-фаготист»; автор ее либретто актер Перине основывался на том же источнике, что и Шикандер. В результате в либретто «Волшебной флейты» все главные персонажи получили совершенно иные характеристики: злой волшебник стал добрым, страдающая мать — символом злодейства и т. п.
Казалось бы, все это не могло способствовать созданию произведения, пронизанного высоким этическим смыслом. Но Моцарт словно бы «не заметил» несуразностей либретто: «Для Моцарта, — говорил много десятилетий спустя наш искусствовед И. Соллертинский, — основная тема „Волшебной флейты“ — это борьба дня и ночи, света и тьмы, разума и предрассудков». И потому за считанные недели родилась партитура, полная необычайно светлой и жизнелюбивой музыки, воспевающей веру в человека, в справедливость. И эти свои идеи он воплотил с поистине шекспировской силой.
Здесь, пожалуй, самое время все же, если это вообще возможно, сообщить читателю основную коллизию оперы. В ней рассказывается о том, как юный принц Тамино, спасаясь от преследования гигантской змеи, влюбляется в дочь хозяйки замка Царицы ночи, приютившей его, — принцессу Памину. Девушку якобы заточил в свой замок злой колдун. Царица ночи дает ему в помощь волшебную флейту, способную оградить его от грозящих опасностей, и он отправляется на поиски Памины в сопровождении птицелова Папагено: последнему вручается магический колокольчик, также обладающий чудодейственными свойствами. В ходе поисков выясняется, что волшебник Зарастро, у которого находится Памина, вовсе не злой, а напротив, добрый чудодей, верховный жрец храма любви и мудрости. У него свои счеты с недоброй обманщицей — Царицей ночи, но он прощает ее дочь и готов отдать ее Тамино. Однако прежде чем соединиться, влюбленные должны пройти испытание молчанием, огнем и водой. После долгих перипетий они успешно преодолевают все препятствия и завоевывают свое счастье.
Такова фабула, словесная форма, в которую Моцарт влил живительный дух своей музыки. И это принесло «Волшебной флейте» триумфальный успех, зарю которого увидел и ее создатель. Спустя неделю после премьеры он писал жене: «Я только что вернулся из оперы: театр, как и всегда, был переполнен. Дуэт „Мужчины и женщины“ и колокольчики в первом акте, как обычно, должны были быть повторены, равно как и терцет мальчиков во втором акте. Но что меня больше всего радует, так это — молчаливое одобрение! Ясно видно, что успех этой оперы непрерывно возрастает».
Плодами этого успеха ему, однако, не суждено было насладиться. Шикандер обманул его, не дав ни гроша. А два месяца спустя смерть унесла музыканта. Но «Волшебная флейта» очень быстро, за считанные годы, совершила поистине триумфальное шествие по планете. Через три года после венской премьеры ее увидели и в Петербурге. А затем — вот уже два столетия, она не сходит со сцен не только немецкоговорящих стран, но и всего мира.
О «Волшебной флейте» написаны буквально тома исследований и эссе. Критиков и солидных исследователей более всего интересовал, занимал парадокс: как могло либретто, написанное столь беспомощно, не погубить это творение, подобно тому как это случилось со многими другими операми прошлого и настоящего? Некоторые — и среди них сам великий Гете, да и Гегель — даже находили в работе Шикандера известные достоинства, некую философскую глубину.
Конечно, чем дальше уходит от нас время создания этого творения, тем более мы видим, что причина — в ином, в гении Моцарта. «Обаяние, что за вещь!» — воскликнул некогда Глинка. А в восьмидесятых годах прошлого века Чайковский писал: «Никогда более бессмысленно глупый сюжет не сопровождался более пленительной музыкой». Думается, и современный слушатель присоединится к этим словам, слушая эту оперу-сказку.
Л. Григорьев, Я. Платек
Источник: «В мире музыки», 1991 г.

