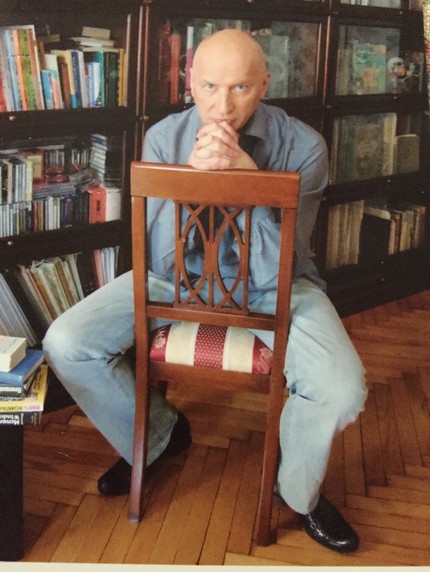Телеканал Mezzo показал «Пиковую даму» в версии Мариинского театра

Телекамера опасна. Бездарный спектакль умрет под ее взглядами. Если же спектакль талантлив (а в случае с «Пиковой дамой» в постановке Алексея Степанюка и при музыкальном руководстве Валерия Гергиева, он не просто талантлив, мы имеем дело с незаурядным явлением русской культуры), то телекамера в сто крат высветит его культурные коды и подтексты.
«ЛАСКОЙ СТРАШИШЬ, ОСКОРБЛЯЕШЬ МОЛЬБОЙ…»
«— Я не могу все их судьбы взять на себя, это не беды, а судьбы.
— У каждого своя судьба. В этой «Пиковой даме» есть Достоевский, я не ошиблась?
— Есть. Петербург — самый темный и душный город, город Пиковой дамы. Игорный дом — это преисподняя. Статуи на балу оживают и танцуют, они без мышц, это мытари. Там много призраков, призрак Графини возникает на кровати. Бег приживалок — это бег крыс по дому. Гергиев сразу все понял, и оркестр сыграл темным, мрачным звуком, замедленные темпы, паузы огромные.
— Герман любит Лизу?
— Нет, он хотел бы ее любить, но нет. Она обернулась к нему оскалом смерти — Графиней. Нет любви, есть уничтожающая страсть, три человека обожглись взглядами, они уже отмечены смертью. Мучительное желание и невозможность любви, у Чайковского так бывает. Это история Щелкунчика и Маши, в финале балета там просто обвал трагедии, там нет счастливого конца.
— Но в «Пиковой даме» есть любовь Елецкого…
— Это больше, чем любовь. Это рыцарское служение. Он словно потусторонний рыцарь. А Лиза мазохистка, она испытывает неизъяснимое наслаждение в гибели.
— Она задыхается от ревности.
— От уничтожающей ревности, когда понимает, что Герману была нужна не она, а Графиня.
(Из разговора с Алексеем Степанюком.)
«Пиковая дама» на «Меццо» — это, по сути, новый спектакль. Где красота умирания, поэзия разрушения возведены в культ. Оператор, снимавший постановку, сумел считать то, что заложено режиссером в подтекстах, что прожито дирижером в этом массиве красивейшей и леденящей музыки.
Крупные планы, когда в голову не приходит, что перед тобой актер — эти лица словно сошли с полотен Гойи, уже одержимого безумием. И ты тоже вольно или невольно, погружаешься в эту бездну. С первых нот, с первых кадров. То, что раньше, возможно, было расфокусировано в силу восприятия из зрительного зала, теперь сфокусировалось и приобрело значение первостепенное.
Этот мальчик, этот немного надменный и словно прозрачный петербургский отрок, придуманный режиссером — он так странен, таинственен, почти бесплотен. Он — словно кормчий в лодке Харона, проводник в иной мир, в те самые Елисейские поля, Элизиум, где праведники, после ухода в мир иной, проводят дни без печали и забот. Хотя Лиза, Герман и Графиня — далеко не праведники…
Мальчик (Егор Максимов) начинает спектакль — с какой-то полуулыбки, с трепета ресниц. И, как всегда бывает в спектаклях Алексея Степанюка, дальнейшее развитие истории словно выплывает из тумана. Через блики, через золотые движущиеся колонны, через траурный тюль, через него выглядывает иногда Герман… Выглядывает Судьба.
Да, нет любви. Есть ее желание — до умопомрачения, до судороги. В жилах Германа (Максим Аксенов) и Лизы (Ирина Чурилова) — «черная кровь», которую не смирят «даже свидания, даже любовь». Она смотрит на него, даже не глядя. «Ты, и не глядя, глядишь на меня», — точнее не скажешь. У Графини (Мария Максакова) когда-то была «черная кровь», которую почувствовал Сен-Жермен, но увы, теперь все в прошлом. Впрочем, она тоже угадывает Германа кожей — самым верным «органом чувств».
Кажется, что Графиня даже не живет воспоминаниями, она просто находится в другом измерении. Первое ее впечатление от Германа — это предчувствие конца, мгновенно включившаяся интуиция. Она на пару минут выходит из этого своего измерения, когда Герман приходит к ней, но это напряжение сил становится для нее роковым.
Степанюк так выстраивает спектакль, что испытываешь ощущения, равные тем, когда летишь на американских горках — от ликования (да, оно тоже есть), до захватывающего ужаса. Ужаса, когда вместе с персонажами, заглядываешь в бездну… От взгляда Германа, кажется, не укрыться. И слово «страшно» не выходит из ума.
Но при этом есть парадокс: спектакль сделан, позаимствуем для этого выражение православного философа Александра Ельчанинова, «с благодатью сердца». Потому что героев жаль, они требуют нашего зрительского сострадания. Крупные планы Германа, его отчаяние в глазах, обреченность и его, и Лизы — экзамен на милосердие для публики.
«ИМЯ ТВОЕ МНЕ СЕЙЧАС ПРОИЗНЕСТЬ…»
«— Гергиев погружал оркестр в бездну. И при этом не изменил хорошему вкусу.
— В опере часто повторяется слово «страшно». Почему?
— Страшно-страсть-страдание — корень у этих слов один.
— «Радость-страданье — одно?»
— Да. История Графини — это история перелома веков. Она жила во времена рыцарей, а сейчас на арену вышел Скупой Рыцарь. Он жаждет власти над миром.
— «Там груды золота лежат, и мне, мне одному они принадлежат»?
— Да».
(Из разговора с Алексеем Степанюком.)
Герман тиран, и, как всякий тиран, слаб, намного слабее Графини, даже Елецкого. Елецкий в спектакле (Владислав Сулимский) светел и чист, и вправду рыцарь, начертавший на щите имя прекрасной дамы. Герман боится несвободы, отсюда его «Я имени ее не знаю, и не хочу узнать». Всякая связь для него – путы в ногах, мешающие достижению цели. Цель — власть над миром, путь к этому — деньги. Комплекс Наполеона буквально съедает его. Не случайно пушкинский Германн — «человек с профилем Наполеона». К Герману в опере это отличие тоже перешло.
И точно — нет любви, есть город с его нехорошим оскалом, с тягой к самоубийству — ну откуда иначе у него такая любовь к наводнениям? Город и люди в нем, которые стали его частью, приняли его правила игры. С безумием белых ночей, с отравляющим ароматом ночной фиалки, с заколдованным лунным кругом сырого марта.
Всего этого нет впрямую в спектакле и все это в нем есть. Потому что практически все спектакли Алексея Степанюка — это айсберги, чуть-чуть над водой, но вся махина его философской мысли скрыта, потому что «мысль, изреченная – есть ложь». Нельзя поизносить имя, Герман был прав, пусть сами догадаются.
Подлинный художник — он всегда в недоговоренности, в тайне, в нежелании раскрыться первому встречному. Кто из нас, вот так, слету, может сказать, что понял Чайковского, Блока, Достоевского? Если и понимаем, то пройдя мучительный путь познания, но тем ценнее то, что наконец понимаешь и делаешь своим. Так и в «Пиковой даме».
Запись спектакля французским телеканалом «Меццо», сделанная с великой деликатностью и уважением к режиссеру и дирижеру, магическим образом высветила множество скрытых подтекстов. От загадки русской души, которую так и тянет бездна и, боясь ее, человек с веселым отчаянием идет к ней на свидание. До понимания этой страшной, разрушительной тяги к власти над миром. Что показала — просто на разрыв аорты — игра Максима Аксенова.
Финал спектакля тих и неожиданен. Из него ушел тот надрыв, который, как правило, любят режиссеры в последних тактах этой оперы. Нет, у Степанюка Герман даже немного уставший. Он сидит на авансцене, а мальчик, этот странный мальчик, тихо-тихо закрывает ему глаза.
В общем, все логично. Тихо вылез карлик маленький, и часы остановил.
Фото: Валентин Барановский, Наташа Разина