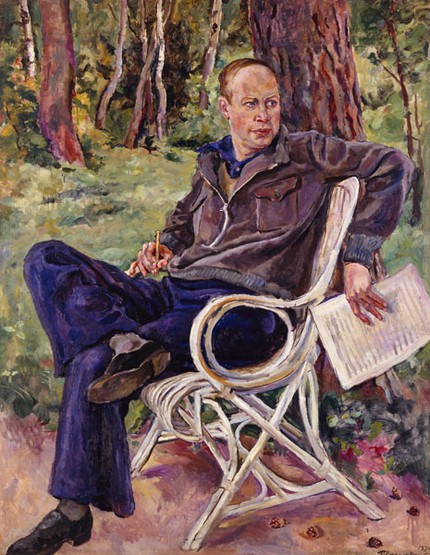
Как ни странно, но точная дата рождения композитора до последнего времени была предметом обсуждений и сомнений. Дело в том, что в своей «Автобиографии» Сергей Прокофьев записал: «Родился я (по старому стилю) 11 апреля, в среду в 5 часов дня. Это выходило — спустя сто дней в году. По новому стилю 11 апреля равнялось 23-му, не 24-му, как ошибочно высчитали некоторые».
Между тем метрическое свидетельство, выданное Екатеринославской духовной консисторией, гласило: «Тысяча восемьсот девяносто первого года рожден пятнадцатого апреля, и крещен двадцать третьего июня, Сергей; родители его: московский почетный гражданин Сергей Алексеевич Прокофьев и законная жена его Мария Григорьевна, оба православные. Крестил священник Андрей Павловский с псаломщиком Евфимием Соколовским. Восприемниками были: харьковский купец Петр Алексеевич Прокофьев и петербургского придворного служителя Григория Жидкова дочь — девица Татиана Григорьева».
В тот период отец будущего композитора, Сергей Алексеевич Прокофьев, занимал место управляющего большим имением Сонцовка, расположенным в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии.
«Сонцовка, — как рассказывал Сергей Сергеевич, — лежала при слиянии двух речек: Солёненькой (или по-украински Солоненькой) и Шурова ручья. Летом они скромно вились по дну довольно глубоких балок и даже совсем пересыхали, весной же развивались в бурные потоки, сносившие плотины и самодельные мосты. По этим балкам, поросшим тополем, вербой и вишней, вытянулись улицы села; там же, где речки сближались, на плоской низине раскинулся огромный господский сад гектаров в двадцать. Дом со службами стоял несколько в стороне, на косогоре, и был окружен другим, малым садом в гектар или два, обнесенным каменным забором, через который, впрочем, каждый мог перелезть. Родители мои приехали через семнадцать лет после освобождения крестьян. Земля была выделена последним довольно причудливым рисунком: чтобы перейти из малого сада в большой, надо было пересечь крестьянский выгон; иная улица начиналась постройками, в которых жили служащие экономии, а затем продолжалась крестьянскими хатами; я никогда не знал, что крестьянское, что „наше“».
Здесь прошло детство композитора. Оно было окрашено не только в типично деревенские, но и музыкальные тона. И в первую очередь, благодаря матери. Мария Григорьевна была неплохой пианисткой: «Когда мать ждала моего появления на свет, она играла до шести часов в день: будущий человечишка формировался под музыку».
Под музыку он формировался и появившись на свет. Сперва этот процесс носил, так сказать, пассивный характер, что вполне естественно: «Одним из первых моих воспоминаний о музыке было следующее: вечер, я лежу в кровати, а вдалеке, комнаты за четыре просторного деревенского дома, слышна соната Бетховена или вальс Шопена. Это играет мать, меня же уложили спать, но мне спать не хочется и я лежу и слушаю».
Но у матери, к счастью, оказались и педагогические способности. Именно она привила сыну первые навыки фортепианной игры. Дело подвигалось с обнадеживающей быстротой. Вскоре обнаружилась склонность мальчугана к сочинению. Первым шагом стала маленькая пьеса под названием «Индийский галоп». Тогда в Индии был голод, взрослые обсуждали эту тему. Вот впечатления Сережи и отразились в музыкальной форме. Отец был руководителем сына по общеобразовательным предметам — русскому языку, математике, иностранным языкам. Однако музыкальные интересы превалировали.
Поездка в Москву принесла яркие театральные впечатления — «Русалка», «Кармен», «Фауст», «Князь Игорь», «Спящая красавица». И как часто случалось у Прокофьева, общие впечатления сразу получают практическое преломление. Вот уже собственными усилиями создана литературная основа, а затем и опера «Великан»; еще одна попытка в том же жанре — «На пустынных островах». Пройти мимо таких явных признаков таланта было невозможно. При содействии ученика консерватории Ю. Н. Померанцева юного музыканта смогли «продемонстрировать» самому Танееву. В своем дневнике 23 января 1909 года выдающийся мастер записал: «Сережа играл свои сочинения — абсолютный слух, узнает интервалы, аккорды. 2 голоса из Баховской кантаты гармонизовал так, что видно, что он ясно представляет себе гармонию. Юша (Ю. Н. Померанцев) будет ему давать уроки и раз в неделю ко мне его приводить».
Именно по совету Танеева к Прокофьевым в Сонцовку отправился Р. М. Глиэр, ставший первым воспитателем великого советского композитора и подготовивший его к поступлению в консерваторию. Летом 1902 и 1903 годов Глиэр обучал своего питомца основам гармонии, формы, инструментовки. В четыре руки они переиграли массу произведений мировой классики. «Наши занятия по гармонии шли успешно, — говорил Рейнгольд Морицевич. — Сережа очень охотно выполнял гармонические задачи, которые я задавал ему главным образом по учебнику Аренского. Мальчик был хорошо начитан в музыкальной литературе, бойко читал с листа, не боясь трудностей. Абсолютный слух и отличная память, замечательное гармоническое чутье, богатая художественная фантазия помогали ему без труда овладевать теорией композиции».
И снова теория и практика оказались неразделимы для юного Прокофьева. Он активно приступает к практическому сочинению. И речь идет не только об ученических пьесах. В архиве композитора сохранились толстые тетради, в которых собраны так называемые «песенки» для фортепиано, связанные по преимуществу с различными семейными событиями. И с каждой новой серией песенок (а всего их набралось шесть десятков) Прокофьев все более обнаруживал самостоятельность своего творческого почерка. Он, однако, не ограничивает себя инструментальной миниатюрой. Уверенность в собственных силах уже тогда была одной из отличительных его черт. Он пишет четырехчастную симфонию, скрипичную сонату, оперы «Пир во время чумы», «Ундина», романсы на стихи Пушкина и Лермонтова, на собственные тексты.
Не следует, однако, думать, что Сережа Прокофьев был этаким угрюмым вундеркиндом. Наоборот, можно сказать, что ничто детское не было ему чуждо. Он играл с местными ребятишками, собирал марки, увлекался астрономией, собирал цветы для гербария, следил за аквариумом, наконец, играл в разные игры, много читал. И увлечение, оставшееся с ним на всю жизнь, — шахматы, в которых он добился немалых достижений.
И все же над всем царствовала музыка. Сомнений в призвании не было — пути вели в Петербургскую консерваторию.
В сентябре 1904 года тринадцатилетний абитуриент появился перед солидной экзаменационной комиссией, которую возглавляли Римский-Корсаков, Лядов и Глазунов. Оперы, симфония, сонаты, фортепианные сонаты. Внушительный список наработанного несколько контрастировал с задорным видом белобрысого мальчугана. Ясно было, однако, что все эти опыты далеко не графоманские. Он был зачислен в класс гармонии к Анатолию Константиновичу Лядову.
У Прокофьева с педагогом не сложилось подлинного взаимопонимания. Строгий стиль Лядова не импонировал ершистому подростку. «Во мне воскресло старое равнодушие к гармоническим задачам, — вспоминал композитор позднее, — я стал писать небрежно, что раздражало Лядова». Все это так, но, конечно, в процессе формирования Прокофьева занятия в классе гармонии сыграли важную роль. Можно сказать, что в будущем он развивал и лядовские традиции. Но тогда мятежные порывы юного музыканта противостояли педантичным указаниям профессора.
Парадокс в том, что явная творческая мятежность не мешала Прокофьеву точно выстраивать свою жизненную канву. Редкое сочетание. И вне консерваторских основ, живя летом в Сонцовке, он продолжал систематическое освоение как композиторских премудростей, так и других духовных ценностей. Здесь им руководила твердая рука отца. Вот как оценивал тот период Сергей Сергеевич: «Отец был систематичен и строг, но ко мне относился мягко. У меня сохранилось большое чувство благодарности к родителям, прививавшим мне с детства любовь к порядку, умение правильно распределять свое время, а также находить удовольствие в каждодневных занятиях».
Тогда в Сонцовке зародилась и его светлая дружба с молодым ветеринарным врачом и любителем музыки Василием Митрофановичем Моролевым. Новый знакомец твердо верил в необыкновенный дар своего приятеля, они часто музицировали в четыре руки, изучая классические образцы и музыкальные новинки. И ко всему Моролев был неизменным шахматным партнером, достойным соперником за доской. Четыре десятилетия продолжалась эта трогательная дружба.
В консерватории разносторонне одаренный студент занимался также у А. А. Винклера по классу специального фортепиано, а с осени 1906 года брал уроки инструментовки у Римского-Корсакова. И тут занятия шли не без шероховатостей. У Прокофьева на все были свои независимые взгляды. Педагоги всегда имели к нему претензии — вот и получил он весною 1908 года от Римского-Корсакова только четверку. Спустя много лет Прокофьев был объективнее: «Только позднее я понял, как много можно было извлечь из соприкосновения с таким человеком, как Римский-Корсаков».
В его музыкантском и человеческом становлении большое значение имела начавшаяся в консерватории дружба с Николаем Мясковским. Их объединяли общие интересы и устремления. При содействии Мясковского молодой Прокофьев знакомился со многими новинками западноевропейской музыки — произведениями Клода Дебюсси, Макса Регера, Рихарда Штрауса. Комментируя взаимоотношения с Лядовым, Мясковский отмечал: «Мы не рисковали показать ему то, что писали «для себя», тем более, что ему было известно о нашей зараженности модернизмом." Ему вторит Прокофьев в письме к Глиэру: «Лядову своих сочинений не показываю, так как за них он, вероятно, выгнал бы меня из класса. Лядов крепко стоит за старую спокойную музыку и дороже всего ценит хорошее голосоведение да логичность последовательности. А новую музыку с интересными гармониями он ругает на чем свет стоит. Мои последние вещи как раз туда принадлежат, так что я предпочитаю уж лучше совсем не показывать».
Да, юношеские фортепианные сонаты и другие опусы были полны художественной дерзости и в академичные рамки не вписывались. Другое дело, что все они не вошли в основной композиторский список, оставшись лишь пробами пера. Но Прокофьев был, пожалуй, одним из самых хозяйственных авторов во всей музыкальной истории. Многие страницы юношеских опытов он впоследствии пустил в дело, используя и для своих зрелых сочинений. Тут примеров очень много, и они приведены в монографии, написанной И. Нестьевым еще в 1957 году.
Впрочем, некоторые пьесы тех лет вошли в золотой прокофьевский фонд. С ними, в частности, состоялся и публичный дебют композитора, устроенный по инициативе петербургского кружка Вечера современной музыки.
В «Автобиографии» Прокофьев рассказывает: «Вечер современной музыки, в котором я выступал, состоялся 18 (31) декабря 1908 года в довольно скромном концертном зале Реформаторского училища. Это был сорок пятый концерт современной музыки, восьмой сезон их существования. Первое отделение состояло из посмертных изданий Грига. Во втором отделении, кроме Мясковского и меня, в программе имелись вещи моих профессоров Витоля, Черепнина и Танеева. Были еще Скрябин и Метнер, но их исполнение не состоялось по болезни пианистки. Из моих вещей первым номером шла „Сказка“ (впоследствии ор. 3), далее „Снежок“ (который ныне наполовину растаял), „Воспоминания“, „Порыв“, „Отчаяние“ и „Наваждение“ (составившие впоследствии ор. 4) и среди этого „Мольбы“, от которых тоже не осталось следов и которые я теперь не могу вспомнить. Играл я прилично, во всяком случае, бойко. Успех был довольно большой, я сказал бы, пожалуй, неожиданный. После окончания концерта многие приходили в артистическую и пожимали мне руку».
Новаторские открытия Прокофьева вызывали осуждение в солидной консерваторской среде. Но это его не смущало. К выпускному экзамену в 1909 году он представил фортепианную сонату и финальную сцену из оперы «Пир во время чумы». Энтузиазма предложенная программа не вызвала, оценки до высших не дотянули, но, так или иначе, диплом «свободного художника» был получен.
Однако Прокофьев не спешил расставаться с консерваторией. Продолжая сочинять музыку (четыре фортепианных этюда, пятичастная Симфониетта, оркестровые пьесы «Сны», «Осеннее», хоры, романсы), он совершенствуется как пианист в классе А. Н. Есиповой, овладевает дирижерским искусством под руководством Н. Н. Черепнина, который, в отличие от других, поддерживал смелые искания своего воспитанника.
Впереди лежал самостоятельный путь. Начало его было омрачено семейным несчастьем — в 1910 году умер отец. Сонцовка отошла в область воспоминаний.
Начало второго десятилетия века для Прокофьева — эпоха бури и натиска. Новое имя властно привлекает внимание публики и специалистов. Знаменитое издательство Юргенсона выпускает его фортепианные сочинения, в программы симфонических вечеров входят его ранние опыты, оперой «Маддалена» открывается список театральных выступлений, в 1912 году композитор представляет слушателям Первый фортепианный концерт.
Это уже был настоящий Прокофьев, имеющий солидный пропуск на музыкальный Олимп. Сегодня мы говорим об этом уверенно, потому что Первый концерт для фортепиано с оркестром занял прочное место на эстраде, вошел в репертуар множества виртуозов. Но тогда все выглядело далеко неоднозначно. Стоит привести оценку критика Л. Сабанеева: «Эта энергически ритмованная, жесткая и грубая, примитивная и какофоничная музыка едва ли даже заслуживает этого почетного наименования. Автор, видимо, в поисках новизны и за неимением оной в глубине таких вещей не происходит».
Вот такое категоричное мнение. Но были у Прокофьева и горячие защитники. В первых рядах — В. Каратыгин и В. Держановский. Впрочем, и среди других рецензентов нашлись проницательные ценители. Так, в «Петербургском листке» можно было прочесть: «Можно подумать, что Прокофьев обещает быть этапом в русском музыкальном развитии: первый этап — Глинка и Рубинштейн, второй — Чайковский и Римский-Корсаков, третий — Глазунов и Аренский, четвертый — Скрябин и Прокофьев. Так ли?» Так, именно так.
На страницах журнала «Музыка» Прокофьева поддерживал и его верный друг Мясковский. Да и сам Прокофьев выступал здесь в качестве рецензента, отстаивая попутно свои новаторские взгляды. Но главным его аргументом были, конечно, новые произведения, поражавшие смелостью в решении композиторских задач, гармоническим своеобразием, ритмической изобретательностью. Вслед за Токкатой появляется Вторая соната для фортепиано, написанная в Кисловодске в 1912 году. Как писал Б. Асафьев, во второй сонате крылья воображения настолько окрепли, что на каждом шагу слышно волевое и упрямое стремление, свое слово: «так хочу, пусть так будет»
Как видим, достижения этого творческого этапа прежде всего связаны с любимым инструментом. Прокофьев начинает фортепианный цикл, который позднее получит название «Сарказмы», пишет пьесы другого цикла под опусом 12, наконец, в 1913 году проходит премьера Второго фортепианного концерта, также вызвавшего скандальный эффект в Павловском вокзале.
Приведем свидетельство современника: «На эстраде появляется юнец с лицом учащегося из Петершуле. Это — С. Прокофьев. Садится за рояль и начинает не то вытирать клавиши рояля, не то пробовать, какие из них звучат повыше или пониже. При этом острый сухой удар. В публике недоумение. Некоторые возмущаются. Встает „пара“ и бежит к выходу. — Да от такой музыки с ума сойдешь! — Что это над нами издеваются, что ли? За первой парой в разных углах потянулись еще слушатели. Прокофьев играет вторую часть своего концерта. Опять ритмический набор звуков. Публика, наиболее смелая часть ее, шикает. Места пустеют. Наконец, немилосердно диссонирующим сочетанием медных инструментов молодой артист заключает свой концерт. Скандал в публике форменный. Шикает большинство. Прокофьев вызывающе кланяется и играет на „бис“. Публика разбегается. Всюду слышны восклицания: к черту всю музыку этих футуристов. Мы желаем получать удовольствие, — такую музыку нам кошки могут показывать дома».
Как быстро меняются взгляды. Уже вскоре Второй фортепианный концерт вызывал гром аплодисментов, а сегодня стал классикой музыкальной литературы XX века. Впрочем, всегда находятся современники, которые прозорливо смотрят в будущее. Таким, в данном случае, снова оказался В. Каратыгин. «Публика шикала, — писал он в 1913 году. — Это ничего. Лет через десять она искупит вчерашние свистки единодушными аплодисментами по адресу нового знаменитого композитора с европейским именем».
Сергей Прокофьев на протяжении всего жизненного пути был верен и привержен королю инструментов — фортепиано. Тем более объяснима его фортепианная склонность в те далекие времена. В 1914 году он вновь, теперь уже окончательно, расставался с консерваторией, на сей раз как пианист и дирижер. Выпускной экзамен по фортепиано носил конкурсный характер. Дерзкий Прокофьев и тут оказался победителем — ему была присуждена первая премия имени А. Г. Рубинштейна. Теперь — к новым берегам.
Летом 1914 году Прокофьев отправился в Лондон. Его партнером в этой поездке был талантливый деятель Вечеров современной музыки В. Ф. Нувель. Он и свел молодого композитора с С. Дягилевым, который ценил талант Прокофьева. По дягилевскому заказу начались, совместно с поэтом С. Городецким, работа над балетом «Ала и Лоллий». «Языческая» тематика этого сочинения во многом отразила влияние «Весны священной» Стравинского. Вскоре балет был готов, но и сюжет, и «варварская» музыка не нашли отклика у Дягилева. В итальянской столице состоялось первое заграничное выступление Прокофьева. Он играл свой Второй фортепианный концерт и несколько фортепианных миниатюр. Реакция оказалась такой же, как в России: у автора нашлись и горячие поклонники, и столь же рьяные отрицатели.
Все это не мешало композитору идти своей дорогой. По инициативе того же Дягилева он пишет новый балет, пронизанный национальным колоритом. Это была «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». «Русский материал сочинялся с большой легкостью, — вспоминал автор. — Точно я коснулся непочатого края или посеял на целине, и новая земля принесла неожиданный урожай».
Тогда же Прокофьев на основе первого балета составляет «Скифскую сюиту». Эта партитура, по словам И. Нестьева, «производила впечатление прежде всего стихийной силой ритма и ошеломляющей красочностью оркестровки. Перед этими непосредственно воздействующими эффектами отступило на второй план мелодическое начало, местами просто потонувшее в оглушающем потоке звучностей». Так или иначе, но сам Прокофьев был удовлетворен своей работой, и прежде всего инструментовкой. Премьера «Скифской сюиты» сопровождалась уже привычным контрапунктом возмущений и восторгов.
Еще раз сопоставим мнения. Критик Ю. Курдюмов: «Прямо невероятно, чтобы такая, лишенная всякого смысла пьеса могла исполняться на серьезном концерте. Это какие-то дерзкие, нахальные звуки, ничего не выражающие, кроме бесконечного бахвальства». Б. Асафьев: «Музыка Прокофьева, раскрывая перед нами радостное устремление свободной воли к творческому становлению, глубоко современна, ибо вся страна сейчас охвачена жаждой деятельности жизни, жаждой реальной работы, верой в светлое грядущее. Ведь от самих людей зависит сделать свою судьбу такой или иной». Проницательные слова.
Крупные замыслы не мешали, так сказать, текущей работе. На одном из Вечеров современной музыки певица А. Жеребцова-Андреева исполнила замечательную вокальную сказку «О гадком утенке» на андерсеновский сюжет — великолепный образец прокофьевской лирики. Здесь он остроумно развивал традиции Мусоргского. Вскоре последовали романсы на стихи современников — К. Бальмонта, З. Гиппиус, Н. Агнивцева и других. В авторских концертах слушатели знакомятся и с новыми его фортепианными опусами (в частности, с первыми «Мимолетностями»). Аудитория вынуждена отступать под напором энергичного таланта. В 1915 году В. Каратыгин имел право констатировать: «Только три года тому назад большинство наших меломанов видело в композициях Прокофьева лишь эксцессы шалого анархизма, грозившего опрокинуть всю русскую музыку. Теперь его не отпускают с эстрады, заставляя играть многочисленные бисы».
Его творчество привлекает внимание даже деятелей из дирекции императорских театров. Такое обстоятельство способствовало реализации давнего и крупного замысла. Он связан с музыкальной интерпретацией романа Достоевского «Игрок». Композитор сам готовит либретто будущей оперы и дает на этот счет такой комментарий: «Я считаю, что обычай писать оперы на рифмованный текст явление совершенно нелепой условности. В данном случае проза Достоевского ярче, выпуклее и убедительнее любого стиха».
Работа над оперой шла с россиниевской скоростью. В ожидании премьеры композитор не отказывался от интервью. В одном из них он сказал: «Заботясь очень о сценической стороне оперы, я постарался по возможности не затруднять певцов излишними условностями, чтобы дать свободу их драматическому воплощению партий. По той же причине оркестровка будет прозрачна, дабы было слышно каждое слово. Я стремлюсь только к простоте». Такие высказывания еще сравнительно недавно казались прокофьевской бравадой, воспринимались как желание композитора подразнить своих оппонентов. Но, кажется, Прокофьев и не думал шутить: он действительно добивался и добился новой простоты. Понадобилось время, чтобы убедиться в этом.
Итак, партитура «Игрока» сдана в Мариинский театр. И вот, как бы отдыхая от сгущенного драматизма Достоевского, композитор создает лирический вокальный цикл на стихи Анны Ахматовой. В его основе хорошо известные сегодня поэтические шедевры — «Солнце комнату наполнило», «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем», «Память о солнце», «Здравствуй», «Сероглазый король».
В театре бушуют страсти вокруг «Игрока», а Прокофьев уже во власти новых замыслов. Это вообще характерная черта его художественной натуры. Мое дело — творчество, а что сделано — то сделано. Лучшее лекарство от будничных треволнений — работа, создание новых произведений. А в идеях недостатка нет. Вот В. Мейерхольд предлагает сюжет для оперы — сказку Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам», складывается фортепианный цикл «Мимолетности», ставший со временем украшением пианистической литературы, и тут же Скрипичный концерт, «Классическая симфония», Третья и Четвертая сонаты, кантата «Семеро их», начальные наброски Третьего фортепианного концерта. Все это — 1917 год. Феноменальная производительность!
Конечно, обидно, что «Игрок» был тогда похоронен театральными рутинерами. Но для рефлексии у него просто не оставалось времени. И другим его сочинениям приходилось ждать премьеры неоправданно долго, в том числе Первому скрипичному концерту. А вот Третья фортепианная соната встречает восторженную оценку коллег. «Основной характер ее, — отмечал Мясковский, — пылкость, заражающая и увлекающая устремленность, серьезная страстность, сквозь которую просвечивает яркими бликами ясная свежесть пафоса молодой самоутверждающейся воли».
В дачном поселке под Петроградом Прокофьев сочиняет «Классическую симфонию». Здесь раскрылся в полную меру веселый талант композитора, его «моцартианство». С одной стороны, вроде бы стилизация, с другой — живая музыка, которая волнует и сегодняшнего слушателя искренней жизнерадостностью, игривым изяществом, мелодической рельефностью. Помимо всего прочего, Прокофьев ставил перед собой и чисто техническую задачу: «До сих пор я обыкновенно писал у рояля, но заметил, что тематический материал, сочиненный без рояля, часто бывает лучше по качеству. Перенесенный на рояль, он в первый момент кажется странным, но после нескольких проигрываний выясняется, что именно так и надо было сделать». Откровенно объяснял автор название симфонии: «Во-первых, так проще; во-вторых — из озорства, чтобы подразнить гусей, и в тайной надежде, что в конечном счете обыграю я, если с течением времени симфония так классической и окажется». Он обыграл, «Классическая» стала классической.
Шел бурный 1918 год. К этому времени Прокофьев завоевал широкое признание. Было создано свыше тридцати опусов. Он стремился к мировым горизонтам и выразил Луначарскому желание выехать за границу. Такое разрешение было получено. 7 мая 1918 года для него началась пора странствий.
Петроград — Владивосток — Токио. Таков первый маршрут. С места в карьер Прокофьев приступил к концертной деятельности, уже в Японии, помимо своих сочинений, играл пьесы Шопена и Шумана. Из страны восходящего солнца — в Сан-Франциско, потом в Нью-Йорк. Не без труда утверждал себя композитор на Американском континенте. Все вроде бы начиналось сначала — снова противоречивое отношение как публики, как и критиков. Однако и тут талант медленно, но верно пробивал стену равнодушия. Вот уже и нью-йоркские издательства обращаются к нему с заказами на новые фортепианные сочинения. Среди них, ставший теперь классическим, цикл «Сказки старой бабушки». Ностальгически звучит авторский эпиграф к этому циклу: «Иные воспоминания наполовину стерлись в ее памяти, другие не сотрутся никогда».
Прокофьев гастролирует по Соединенным Штатам с симфоническими концертами. Особенно тепло принимают его в Чикаго. С местным театром он договаривается о постановке оперы «Любовь к трем апельсинам» и вскоре завершает сочинение музыки на собственное либретто. Дело, однако, не заладилось, и премьеры пришлось ожидать до 1921 года. Веселая пародийность итальянской сказки была очень близка определенным сторонам прокофьевского дарования. Об этом говорил сам композитор: «Пьеса Гоцци очень меня занимала смесью сказки, шутки и сатиры, а главное своей театральностью. Пытались установить, над кем я смеюсь, над публикой, над Гоцци, над оперной формой или над неумеющими смеяться. Находили в „Апельсинах“ и смешок, и вызов, и гротеск. Я просто сочинял веселый спектакль». Такую веселость сумели воспринять и оценить первые зрители в Чикаго.
В ожидании премьеры Прокофьев, как водится, не сидел сложа руки. Сочинив в 1919 году Увертюру-секстет на еврейские темы, он приступил к поискам нового оперного сюжета и совершенно неожиданно остановил свой на символистской повести Валерия Брюсова «Огненный ангел». Это был резкий контраст по отношению к «Апельсинам». Но как всякий большой художник, Прокофьев был многолик. На смену радостной прозрачности — экспрессивная туманность, которая была заключена уже в полном заглавии литературного источника: «Огненный ангел, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа к одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией и некромантией, о суде над одной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппой из Ноттенгейма». Судьба оперы оказалась несчастливой — лишь после смерти автора с ней познакомились слушатели.
Жизнь в Соединенных Штатах все больше тяготила Прокофьева: «Я бродил по огромному парку в центре Нью-Йорка, и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которым нет дела до моей музыки; о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде „Бетховен — гениальный композитор“, и грубо лягавших новизну; о менеджерах, устраивавших длинные турне для артистов, по 50 раз игравших ту же программу из общеизвестных номеров.»
Новатора Прокофьева тянуло в Париж, где активно бился пульс передового искусства. Здесь он вновь встречается со своим давним «патроном» Сергеем Дягилевым. Единомышленники для начала реализуют свой давний замысел и весной 1921 года показывают парижанам балет «Сказка о шуте…». Это было броское зрелище, сопровождавшееся сокрушительным звуковым шквалом. Прокофьев снова оказался на перекрестке эстетических столкновений.
Зато почти безоговорочное признание сразу завоевал Третий фортепианный концерт. Вслед за автором к нему обратились многие знаменитые пианисты. И. Нестьев так представляет это замечательное произведение: «Жизненные контрасты образов, столь типичные для молодого Прокофьева, представлены в Третьем концерте с наибольшей рельефностью: сердечная русская лирика, добродушно гротескная сказочность и — главное — волевая, упруго-атлетическая мощь фортепианного техницизма. Автор смело сталкивает контрастные образы даже в пределах отдельных частей; острота и неожиданность сопоставлений компенсирует отсутствие сложных разработочных разделов: протяжный свирельный напев сменяется щедрыми каскадами пассажей или странно-угловатыми сказочными образами; певучий протяжный мелос уступает место стремительному напору энергичных ритмов».
Это сочинение произвело сильное впечатление на крупного русского поэта Константина Бальмонта, жившего в эмиграции. Он написал стихотворение, которое так и назвал — «Третий концерт».
Ликующий пожар багряного цветка,
Клавиатура слов играет огоньками,
Чтоб огненными вдруг запрыгать языками.
Расплавленной руды взметенная река.
Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века,
Внезапно дикий бык, опутанный врагами,
Все путы разорвал и стал, грозя рогами.
Но снова нежный звук зовет издалека.
Из малых раковин воздвигли замок дети.
Балкон опаловый утончен и красив.
Но, брызнув бешено, все разметал прилив.
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,
В тебе востосковал оркестр о звонком лете
И в бубен солнца бьет непобедимый скиф.
В ту же пору Прокофьев положил стихотворение в основу очередного вокального цикла. Он был посвящен молодой испанской певице Лине Льюбера, которая в 1922 году стала женой композитора.
Некоторое время Прокофьев с семьей на юге Германии, где редактирует прежние свои работы, а также создает Пятую фортепианную сонату. На парижской премьере она получила сдержанный прием. Дождался, наконец, своей очереди и Скрипичный концерт, сыгранный впервые французом Марселем Дарье. Это сочинение вызвало нападки со стороны музыкальных радикалов. (Лишь Жозеф Сигети восстановил «доброе имя» концерта.)
Складывалась парадоксальная ситуация — теперь Прокофьев подвергался атакам как «справа», так и «слева». Одним он казался по-прежнему бунтарем, другим — уже старомодным традиционалистом! Последним уже вскоре пришлось отступить, когда на суд публики была вынесена вполне конструктивистская Вторая симфония. «От моей симфонии большинство в ужасе, — писал Сергей Сергеевич Асафьеву, — хотя и насчитываются горячие поклонники, другие же поклонники оплакивают мою гибель».
В том же ключе был выдержан и новый балет (снова по дягилевской наводке) — «Стальной скок». Сюжет был связан с жизнью Советской России, ее индустриальным возрождением. «Поэзия машин» — вот что вдохновляло композитора и его соавтора художника Г. Якулова. И снова бурный, противоречивый прием, сперва в Париже, а затем в Лондоне.
Как обычно, Прокофьев практически не знает пауз в своем композиторском творчестве. Опера «Огненный ангел» не может проникнуть на сцену, и композитор использует ее музыку для симфонической сюиты, ставшей в итоге Третьей симфонией — значительной музыкальной драмой. «Мне кажется, что в этой симфонии мне удалось углубить мой музыкальный язык», — писал несколько позднее Прокофьев. К ней обратились такие мировые звезды дирижерского искусства, как Пьер Монте, Леопольд Стоковский и другие.
Но еще до этого произошло событие, сыгравшее особую роль в жизненной и творческой судьбе Прокофьева. В январе 1927 года он приехал в СССР. К этому времени его музыка получила на родине большое распространение. И театры, и оркестры, и солисты с охотой исполняли прокофьевскую музыку. Гастроли в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе прошли с триумфальным успехом.
Об одном из выступлений известный музыковед К. Кузнецов писал: «Это не был концерт, это было событие. Отдельные голоса утонули во всеобщем единодушном признании. Это было какое-то особое, „завораживающее“ действие, да и сам композитор играл в тот вечер с особым подъемом, естественным в момент встречи с аудиторией, какая ему не могла не быть особенно близкой».
Действительно, так. Не надо, а это делалось раньше, преувеличивать тяготы зарубежной судьбы Прокофьева. Он и там был в центре художественной жизни. Один за другим ставились в Париже его балеты — скажем, на смену «Стальному скоку» пришел «Блудный сын» (последний дягилевский заказ). Эту музыку на сюжет евангельской притчи композитор считал большой своей удачей, ее и Рахманинов высоко оценил. Серж Лифарь оказался сподвижником Прокофьева в работе над балетом «На Днепре». Как отмечал композитор, «планируя этот балет с Лифарем мы шли от хореографического и музыкального построения, считая сюжет в балете вещью второстепенной».
В последние «заграничные» годы рождаются и такие значительные произведения, как Четвертый (для левой руки) и Пятый фортепианный концерты, Четвертая симфония, Первый виолончельный концерт. Он сочиняет множество фортепианных пьес. Не было недостатка и в гастрольных контрактах. Скажем, в начале 1930 года Прокофьев совершает насыщенную поездку по Соединенным Штатам, выступая с прославленными дирижерами и оркестрами. Как раз там он получает заказы от Бостонского оркестра на Четвертую симфонию и от Библиотеки конгресса на Первый струнный квартет.
Так что все складывалось вполне благополучно. И все же он принимает кардинальное решение о возвращении в родные края. Причины такого решения лучше всех объяснил сам Сергей Сергеевич в беседе с французским критиком Сержем Морэ: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Я должен снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это даст мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни — мои песни. Здесь я не спокоен. Я опасаюсь впасть в академизм. Да, мой друг, я возвращаюсь!»
Прокофьев приехал в Советский Союз с радужными надеждами. 3 декабря 1932 года он заявил: «Гигантские успехи на фронте строительства и культуры в СССР произвели на меня потрясающее впечатление. Энтузиазм и подъем этого строительства я надеюсь отразить в одном из своих будущих симфонических произведений».
Композитор, действительно, очень быстро вписался в новую и непривычную для него художественную жизнь. «Какой сюжет я ищу? — говорил он тогда же. — Не карикатуру на недостатки, высмеивающую отрицательные черты нашей действительности. В данную минуту меня это не прельщает. Привлекает сюжет, утверждающий положительное начало. Героика строительства. Новый человек. Борьба и преодоление препятствий. Такими настроениями, такими эмоциями хочется насытить большие музыкальные полотна».
Однако советский период прокофьевского творчества открылся более скромными работами. Скромными, но чрезвычайно яркими. По предложению ленинградского режиссера А. Файнциммера он пишет музыку к кинокомедии «Поручик Киже» по одноименной повести Ю. Тынянова. Вскоре была сделана на этой основе пятичастная симфоническая сюита. Вообще, в то время Прокофьев значительное внимание уделяет так называемой прикладной музыке, которая в полной мере оценена лишь много лет спустя.
Лучшие мастера драматического театра и кинематографа вступают с ним в сотрудничество. Так рождается музыка (а в некоторых случаях потом и сюиты) к спектаклям Камерного театра («Египетские ночи» и «Евгений Онегин»), к задуманной В. Мейерхольдом постановке «Бориса Годунова», к фильму «Пиковая дама». Как видим, все это пушкинская тема, что легко объяснимо: в 1937 году отмечалось столетие со дня гибели великого поэта.
Прокофьев снова работает с неимоверной энергией. Тогда же он начал было преподавать в Московской консерватории, однако вскоре ему пришлось оставить педагогику: творческие замыслы не оставляли времени ни для чего другого. В Москве проходит премьера его «Симфонической песни», он пробует свои силы в песенном жанре, осваивая новую для себя революционную тематику, сочиняет Двенадцать фортепианных пьес для детей, завершает Второй скрипичный концерт, к которому обращаются крупнейшие советские и зарубежные исполнители. При это композитор находит время и для гастрольных поездок. Теперь Прокофьев — признанный мастер, желанный гость в разных странах. Одно из свидетельств глубокого уважения — избрание его почетным членом Музыкальной академии «Санта-Чечилия» в Риме. По этому поводу характерный комментарий Прокофьева: «Меня тут Римская академия выбрала в почетные члены, так что — увы мне, увы! — цикл закончен, когда-то опрокидывал основы, а теперь записан в академики».
Выдающимся творческим завоеванием того периода стал балет «Ромео и Джульетта». Это была инициатива Ленинградского театра оперы и балета. Но эта же сцена отказалась от чести первой представить зрителям прокофьевский шедевр. Вот такой парадокс. Композитор сам поставил сценарий и с увлечением приступил к сочинению. Теперь не надо большой смелости, чтобы назвать музыку балета гениальной. В хореографическом искусстве мало найдется образцов, достойных встать в один ряд с созданием Прокофьева. Тут нет никакого эпатирующего бунтарства, музыкальные линии прочерчены с моцартовской ясностью, образы Шекспира зажили новой полнокровной жизнью.
И все же на первом прослушивании музыка была признана. слишком сложной и антитанцевальной. Словом, советские слушатели знакомились с музыкой балета по симфоническим сюитам, а тем временем сам балет был впервые поставлен театром в чешском городе Брно. Это случилось 30 декабря 1938 года. В дальнейшем, разумеется, балет «Ромео и Джульетта» стал одним из лучших украшений репертуарных афиш Кировского и Большого театров.
Способность творческого переключения всегда отличала Сергея Сергеевича. Почти одновременно с «Ромео и Джульеттой» композитор был увлечен уникальной задачей, которая была связана с деятельностью Центрального детского театра под руководством Н. И. Сац. Музыкальными чудесами полна его симфоническая сказка «Петя и волк» — увлекательный урок, вводящий детей в загадочный оркестровый мир. Свой замысел Прокофьев разъяснял в предисловии: «Каждое действующее лицо этой сказки изображено в оркестре своим инструментом: птичка флейтой, утка гобоем, кошка кларнетом стаккато в низком регистре, дедушка фаготом, волк тремя валторнами аккордами, Петя струнным квартетом, выстрелы охотников литаврами и большим барабаном. Перед оркестровым исполнением желательно показать эти инструменты детям и сыграть на них лейтмотивы. Таким образом во время исполнения дети без всякого усилия выучиваются распознавать целый ряд оркестровых инструментов».
В середине тридцатых годов список концертных произведений Прокофьева пополняется «Русской увертюрой» и «Кантатой к 20-летию Октября». Помпезное произведение, созданное к юбилею, во многом носило умозрительный характер. Ее литературную основу составили фрагменты из «Коммунистического манифеста», из трудов Карла Маркса, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
Композитор стремился реализовать новую эстетическую платформу: «В моих работах, написанных за этот хороший творческий период, я стремился к ясности и мелодичности языка. Но в то же время я никоим образом не старался отделываться общеизвестными оборотами гармонии и мелодии. Но в том-то и трудность сочинения ясной музыки: эта ясность должна быть не старая, а новая». Тут случались выдающиеся победы, но бывали и просчеты.
Спустя многие годы у нас пытались реанимировать прокофьевскую кантату, и все же этот эксперимент, пусть изобретательно скомпонованный, так и не привился на концертной эстраде. Правду сказать, Прокофьев порой пытался оперативно откликнуться на события окружающей жизни. Такая прямолинейность далеко не всегда приводила к успеху. Вот, например, написанная с нарочитой простотой сюита для солистов, хора и оркестра «Песни наших дней».
Наоборот, обращение к истории привело к созданию партитуры, золотыми буквами вписанной в сокровищницу советской музыки. В 1938 году Прокофьев, вместе с Сергеем Эйзенштейном, работал над фильмом «Александр Невский». Это была не просто музыка, сопровождавшая кинематографический ряд. Как говорил композитор, «Эйзенштейн произвел съемку отдельных эпизодов, построив их соответственно моему музыкальному оформлению». На основе киномузыки Прокофьев создал масштабную кантату «Александр Невский», развернутую музыкально-историческую фреску. Это замечательное произведение проникнуто патриотическим пафосом.
Указывая на связи кантаты с традициями русской музыкальной классики, И. Нестьев отмечал: «Это сказывается и в ярко патриотической направленности сюжета, и в национальной почвенности, народности русских тем, и в мастерском использовании приемов пейзажной или театрально-действенной звукозаписи. Образы русской природы сопровождают почти все сцены этой вокально-симфонической драмы: унылая панорама разоренной Руси в первой части, суриковские тона морозной предрассветной мглы в начале „Ледового побоища“, темные ночные краски в сцене „Мертвого поля“. И рядом с реальным миром русских пейзажей перед глазами слушателей возникают полуфантастические образы войны и разрушения, словно сошедшие со средневековых фресок».
Тем не менее Прокофьев не оставлял мысли о современной революционной тематике. Ему были ясны все сложности на этом пути. «Одно дело, — писал он в 1938 году, — когда заставляешь, скажем, петь оперные арии героев прошлых веков, людей, которые носят парики, бархатные камзолы, туфли с пряжками. Тогда все условности оперного стиля не представляют особых трудностей для современного композитора. Когда же изображаешь в опере героя сегодняшнего дня, нашего человека, говорящего современным языком, чего доброго пользующегося по ходу действия телефоном и т. д., — на оперной сцене легко поскользнуться и погрешить против художественной правды».
Но уж такой был характер у Прокофьева: именно труднейшие, первопроходческие задачи всегда привлекали его неотразимо. Поиски подходящего сюжета привели композитора к повести Валентина Катаева «Я сын трудового народа». Либретто (при активном участии композитора) готовил сам писатель. Остановились на названии по имени главного героя — «Семен Котко». Яркими музыкально-сценическими средствами композитор воссоздал атмосферу грозных революционных лет, столкновения человеческих характеров на фоне судьбоносных социальных коллизий.
Осенью 1940 года опера была показана Московским театром имени К. С. Станиславского. Проницательным ценителям уже тогда были ясны достоинства нового произведения. Н. Мясковский записал в своем дневнике: «Впечатление все сильнее и сильнее. Необыкновенная музыка». С. Рихтер вспоминал: «В тот вечер, когда я впервые услышал „Семена Котко“, я понял, что Прокофьев — великий композитор». В правоте этих слов можно было убедиться много лет спустя, когда опера была поставлена на сцене Большого театра СССР.
А Прокофьев времени не терял. Еще шли репетиции «Семена Котко», а он успел завершить Шестую фортепианную сонату. Уже вскоре это замечательное произведение, в котором, по словам Н. Мясковского, встретились старый и новый Прокофьев, стало украшением пианистического репертуара. Сперва автор исполнил новинку в одной из радиопередач, а на эстраде она впервые прозвучала в интерпретации молодого Святослава Рихтера. С тех пор музыка Прокофьева надолго закрепилась в репертуаре талантливого пианиста.
И снова взоры композитора прикованы к музыкальному театру. Молодая поэтесса Мира Мендельсон (вскоре она стала женой композитора, расставшегося с Л. Льюбера) привлекла его внимание к комедии английского драматурга Шеридана «Дуэнья». Сочинение шло стремительно. Композитор сам написал либретто, М. Мендельсон приноровила к музыке стихотворные тексты, и к исходу осени 1940 года лирико-комическая опера «Обручение в монастыре» была готова. «Построение пьесы Шеридана, — отмечал Прокофьев, — включающей множество песенок, дало мне возможность, не останавливая действия, ввести целый ряд законченных номеров — серенад, ариетт, дуэтов, квартетов, больших ансамблей». С увлечением готовил новую постановку Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Однако премьера отодвинулась на несколько военных лет.
Да и, самому Сергею Сергеевичу пришлось прервать работу над сказочным балетом «Золушка», который был ему заказан Кировским театром. «22 июня, теплым солнечным утром я сидел за письменным столом, — рассказывал композитор о своей работе в поселке Кратово под Москвой. — Вдруг появилась жена сторожа и с взволнованным видом спросила меня, правда ли, что „немец на нас напал, говорят, что бомбят города“. Известие это ошеломило нас. Мы пошли к жившему неподалеку Сергею Эйзенштейну. Да, это оказалось правдой».
Эта суровая правда отодвинула в сторону уже начатые работы. Она требовала оперативного и действенного отклика. Таким жанром для многих советских композиторов стала песня. Прокофьев пишет песню «Дрянь адмиральская» на стихи Маяковского, «Песню смелых» на стихи А. Суркова, пять песен на стихи М. Мендельсон («Клятва танкиста», «Сын Кабарды», «Подруга бойца», «Фриц», «Любовь воина»).
В Кратово, под Москвой, зреют новые и новые замыслы. «Хотя это дачное место не представляло собой объекта для атак, но вражеские самолеты часто по ночам с воем появлялись над нами и освещали местность осветительными ракетами для ориентации. Небо было залито яркими белыми полосами прожекторов. Эти прожекторы, зеленые трассирующие пули истребителей, желтые осветительные „лампы“, которые спускали немцы, создавали жуткую в своей красоте картину». Эти впечатления так или иначе отразились в программной симфонической сюите «1941 год». Трем ее частям автор дал подзаголовки: «В бою», «Ночью», «За братство народов», и сам прокомментировал их содержание: «Первая — картина горячего боя, воспринимаемого слушателями то как бы издалека, то словно на поле сражения; вторая — поэзия ночи, в которую врывается напряжение приближающихся боев; в третьей — торжественно-лирический гимн победе и братству народов».
В начале августа группа выдающихся деятелей искусства была эвакуирована в город Нальчик, где Прокофьев провел три месяца. Работа не прерывалась ни на один день. Жадный до новых впечатлений, Сергей Сергеевич изучает здесь музыкальный фольклор Кабарды и на его основе сочиняет Второй струнный квартет, в котором Б. Асафьев отмечал «блеск квартетной инструментовки, силу и свежесть экспрессии и новизну ритмического развития».
После короткого пребывания в Тбилиси Прокофьев отправился в Алма-Ату, куда его пригласил С. Эйзенштейн для совместной работы над фильмом «Иван Грозный». К этому времени композитор создал еще один свой фортепианный шедевр — Седьмую сонату. Ее первые наброски относятся к довоенной поре, но, безусловно, на этой музыке лежал отпечаток бурных событий. Это ощущали и слушатели, и первые исполнители, среди которых такие замечательные виртуозы, как Святослав Рихтер и Владимир Горовиц.
Прослушав сонату в исполнении американского пианиста, один из критиков писал: «Эта пьеса по-своему так же характерна для потрясаемой войной России, как и Седьмая симфония Шостаковича. В неумолимом ритме финала есть что-то героическое, внушающее представление о непреклонной воле народа, которому не суждено испытать поражение».
В те дни Алма-Ата была кинематографическим городом. Все мощности из Москвы и Ленинграда — творческие и производственные — сосредоточились в Центральной объединенной киностудии. Помимо того в Семипалатинске работали украинские кинематографисты, Прокофьев оказался в центре внимания. «Покладистый» композитор сочиняет музыку для фильмов «Котовский», «Тоня», «Партизаны в степях Украины». Но, конечно, центральной киноработой тех лет стал эйзенштейновский «Иван Грозный».
Здесь режиссер и композитор развивали принципиальные положения, найденные в «Александре Невском». Помимо дарования, что было ясно для всех, Прокофьев был очень отзывчивый и контактный сотрудник. Он подчеркивал: Я люблю, когда драматург или режиссер имеет конкретные требования, касающиеся музыки, иначе говоря, мне помогает, когда мне говорят: «здесь нужна минута с четвертью музыки» или «здесь дайте печальную и нежную музыку».
С другой стороны, Эйзенштейн рассказывал: «Меня всегда поражало, например, как с двух, максимум трех беглых прогонов смонтированного материала (и данных о времени в секундах) композитор С. С. Прокофьев, с которым я работал, так великолепно и безошибочно — уже на следующий день! — сочинил музыку во всех членениях и акцентах своих совершенно сплетающуюся не только с общим ритмом действия эпизодов, но и со всеми тонкостями и нюансами монтажного хода».
Анализируя эту киноработу, явно выходящую за рамки обычной прикладной музыки, И. Нестьев писал: «В партитуре „Ивана Грозного“ Прокофьев вновь с большой силой раскрыл национальную природу своего творчества. Как и в „Александре Невском“, здесь поражает почти зримая конкретность, „материальность“ музыкальных образов. Тяготение к характерной звукописи, к воплощению батальных или жанрово-обрядовых сцен не исключает широких музыкальных обобщений эпического или лирико-драматического плана. В музыке нового фильма значительно шире, чем в „Александре Невском“, представлен мир личных эмоций главных героев, разнообразная гамма переживаний царя Ивана — от юношеских светлых порывов до тяжких страданий, — горестные чувства юной царицы Анастасии, отравленной врагами, коварство и злоба боярыни Ефросиньи Старицкой. Вместе с тем в „Иване Грозном“ передана атмосфера Московской Руси XIV века: с одной стороны, крепнущая мощь молодой России, объединяемой могучей волей царя Ивана, с другой — злобные происки изменников-бояр».
В той же монографии, изданной в 1957 году, исследователь сетует на то, что музыка к «Ивану Грозному» не получила самостоятельного концертного воплощения. В связи с этим стоит заметить, что в 1961 году на основе музыкального киноматериала дирижер А. Стасевич скомпоновал ораторию, а в 1957 году на сцене Большого театра был показан одноименный балет, составленный М. Чулаки.
Летом 1942 года Прокофьев вновь обратился к военной тематике. Он написал одночастную кантату «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным». Ее сюжет сам композитор изложил так: «В центре кантаты взволнованная повесть о мальчике, у которого фашисты убили мать, сестру, отняли счастливое детство. Потрясенная душа мальчика мужает. Во время отступления врагов он взрывает гранатой автомобиль с фашистским командованием. Имя и судьба мальчика остаются неизвестными, но слава о его храбром поступке облетает тыл и фронт и зовет вперед».
Среди жизненных и музыкальных катаклизмов светлым островком жизнерадостной лирики и танцевальности предстает Соната для флейты и фортепиано. Уже в Москве ее представили Н. Харьковский и С. Рихтер. А летом 1944 года это сочинение обрело другой инструментальный облик — скрипичный и стало украшением концертного репертуара. Впервые соната в скрипичном варианте была сыграна Львом Обориным и Давидом Ойстрахом. Тесная дружба связывала композитора с выдающимся скрипачом. Помимо музыки, она базировалась и на их общем увлечении — оба были отличными шахматистами и неоднократно сражались за 64-клеточной доской.
Летом 1943 года Прокофьев с женой обосновались в Перми. Здесь он встретился со своими друзьями из Кировского театра. Это были деловые встречи — близилась к завершению работа над балетом «Золушка». Но до премьеры было еще далеко.
Прямо-таки «болдинский» характер носило пребывание композитора летом 1944 года под городом Иваново, где жили и работали многие советские музыканты. Позднее Арам Хачатурян вспоминал: «В Ивановском доме творчества Сергей Сергеевич сочинял с неукоснительной регулярностью. Каждое утро он ходил в близлежащую деревню, где Дом творчества снимал комнаты для работы композиторов. Там, в скромном домике, стоявшем на краю деревни, были написаны Пятая и Шестая симфонии, Восьмая соната, цикл фортепианных пьес из „Золушки“ и многое другое. Сюда время от времени собирались жившие в Доме творчества музыканты, чтобы познакомиться с новыми работами Сергея Сергеевича».
Да, это был великолепный творческий урожай. Наверное, предвестие победы над врагом было для композитора дополнительным стимулом. Восьмая соната завершала фортепианную триаду, ставшую, без всякого преувеличения, важнейшей кариатидой современного пианистического репертуара. Ее первым интерпретатором стал Эмиль Гилельс.
13 января 1945 года слушатели в последний раз видели Прокофьева за дирижерским пультом. Он руководил исполнением своей Пятой симфонии. В ней, говорил композитор, «я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту. Не могу сказать, что эту тему выбирал, — она родилась во мне и требовала восхода. Я написал такую музыку, какая зрела и, наконец, наполнила мою душу». Может быть, именно поэтому симфония покоряет слушателя прежде всего своим удивительным мелодическим богатством.
Вскоре она прозвучала под управлением Евгения Мравинского в Ленинграде, а затем с ней познакомились и зарубежные слушатели. После нью-йоркской премьеры (Бостонский оркестр во главе с Сергеем Кусевицким) критик журнала «Мюзикал Америка» писал: «С нетерпением ожидавшаяся Пятая симфония Прокофьева разразилась подобно разрыву бомбы над музыкальным горизонтом Нью-Йорка. Трудно описать, не впадая в преуменьшение, произведение, столь прекрасно оркестрованное, так мудро сконструированное, сочетающее в себе талант и изобретательность».
Словом, выступая в 1944 году на пленуме оргкомитета Союза композиторов СССР, Д. Шостакович имел все основания сказать: «Большое место в современной советской музыке принадлежит С. Прокофьеву. Его дарование удивительно расцвело в наши дни. Прокофьев, к сожалению, не занимается педагогической деятельностью. Его нельзя назвать учителем и воспитателем нашего молодого поколения в буквальном смысле этого слова. Однако его влияние на многих композиторов очень велико».
Но ведь мы еще не упомянули главного свершения Прокофьева тех лет. Еще за несколько месяцев до рокового июня 1941 года у него возник дерзкий замысел. Вместе с Мирой Мендельсон он начал обдумывать план оперы по роману Льва Толстого «Война и мир». Патриотический подъем, охвативший весь наш народ в пору борьбы с фашизмом, делал эту тему не только исторической, но и вполне актуальной.
Если вспомнить масштаб толстовской эпопеи, то можно представить, какую сложную задачу предстояло решить композитору. Он говорил: «Мой либреттист и я стремились полностью сохранить дух произведения Льва Толстого и его язык. Там, где авторам либретто не хватало толстовских диалогов, диалоги приходилось строить по тексту романа и характеристикам, данным Толстым его героям. Кроме Толстого, мы обращались к запискам поэта-партизана Дениса Давыдова и к текстам песен, сложенных народом во время Отечественной войны 1812 года».
Переезжая из города в город, сочиняя разные произведения, Прокофьев не оставлял своего грандиозного центрального замысла. Создание оперы — это путь исканий и проб. Композитор настойчиво искал лучших музыкальных решений, способных передать многоплановое богатство литературного первоисточника. В своем эпическом полотне композитор использовал, кажется, весь арсенал оперного искусства, накопленный его великими предшественниками. Ему удалось воссоздать и внутренний мир толстовских героев, и передать патриотический пафос эпического полотна. В соответствии с таким «комплексным» замыслом Прокофьев смело сопоставляет камерно-лирические и народно-массовые сцены. Мелодический рельеф и выразительный речитатив, тонкая звукопись и размах симфонизма, психологический подтекст и драматический напор — все это органично сплетается в уникальном образце оперного реализма.
Публика знакомилась с этим сочинением, так сказать, поэтапно. Еще в октябре 1844 года ее показал Ансамбль советской оперы Всероссийского театрального общества. Певцы пели под фортепианный аккомпанемент. В июне 1945 года прошло концертное исполнение в Большом зале Московской консерватории. За пультом стоял преданный пропагандист прокофьевской музыки С. Самосуд. Огромный успех сопровождал и постановку первой части в Ленинградском Малом оперном театре (1946). Но полностью увидеть свое детище на сцене композитору так и не довелось.
Труд Сергея Прокофьева в военную пору без всякого преувеличения можно назвать титаническим. Такое напряжение отразилось на его здоровье. Его поразило тяжкое гипертоническое заболевание. Он вынужден был ограничить свою композиторскую работу. М. Мендельсон писала С. Эйзенштейну в августе 1945 года: «Врачи строжайше запретили пока всякие занятия. Он сам тянется работать и тяжело переживает вынужденное бездействие».
Однако бездействие продолжалось недолго. Наверное, его силы поддерживало и внимание, которым в то время была окружена его музыка. Она звучит в театральных и концертных залах по всей стране. Утверждается мировое признание прокофьевского творчества. И это тоже заставляет Прокофьева работать с удвоенной энергией.
Осенью 1945 года С. Самосуд впервые дирижирует «Одой на окончание войны», тогда же композитор ставит точку на кинопартитуре ко второй серии «Ивана Грозного». Фильм на экраны не вышел: начался ждановский погром отечественного искусства. Для Прокофьева эти тяжкие испытания были впереди. А пока Большой театр с успехом ставит его «Золушку». «Мне хотелось, чтобы этот балет был как можно более танцевален, — писал композитор. — „Золушка“ написана в традициях старого классического балета. В ней много вариаций, па-де-де, три вальса, адажио, гавот, мазурка. В музыке Золушка характеризуется тремя темами. Первая тема — обиженная Золушка, вторая — Золушка чистая и мечтательная, третья широкая тема — Золушка влюбленная, счастливая». Прокофьев написал чудесную сказку, и она завоевала прочную любовь зрителей сперва в Москве, а потом в Ленинграде, где «Золушка» была поставлена Кировским театром.
Недуг одолевал Прокофьева, с 1946 года он почти безвыездно живет на даче в поселке Николина Гора под Москвой. Но расстаться с работой он просто не может. Он пишет новую скрипичную сонату и посвящает ее первому исполнителю — своему другу Давиду Ойстраху (партнером скрипача был Лев Оборин).
Тем временем Кировский театр показывает еще одну прокофьевскую премьеру — оперу «Дуэнья» («Обручение в монастыре»). Автор не смог приехать в Ленинград, но, конечно, был очень рад успеху своего детища. Все были солидарны с мнением Д. Шостаковича: «По всей вероятности, „Дуэнья“ — одно из самых светлых и жизнерадостных произведений Прокофьева; опера овеяна веселой свежестью, молодостью. Это глубоко органичное и цельное в своих компонентах произведение, полное непосредственного юмора и смеха, смеха широкого, добродушного и лукавого. Слушая „Дуэнью“, вспоминаешь „Фальстафа“ Верди — та же непосредственность чувств, обогащенная мудростью большого мастера».
На протяжении всего творческого пути Прокофьев демонстрирует подкупающую легкость перехода от одного жанра к другому. К тридцатилетней годовщине Октября он пишет ряд юбилейных сочинений, Девятую фортепианную сонату посвящает С. Рихтеру, тут же появляется Соната для скрипки соло. И наконец, оркестр Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского впервые исполняет Шестую симфонию.
Эта развернутая драматичная партитура относится и к высшим достижениям композитора, и представляет собой один из лучших образцов симфонизма XX века. Комментируя содержание своей музыки, Прокофьев в беседе с И. Нестьевым заметил: «Сейчас мы радуемся великой победе, но у каждого из нас есть незалеченные раны: у одного погибли близкие, другой потерял здоровье. Об этом не следует забывать».
Вместе с тем его по-прежнему влекла театральная сцена. Начались поиски современного сюжета. Композитор нашел поддержку у Кировского театра, и в частности у дирижера Бориса Хайкина. Выбор остановили на «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Композитор сразу изложил в связи с этим свое нынешнее художественное кредо: «В вышепоименованной опере я намерен ввести трио, дуэты и контрапунктически развитые хоры, для которых я пользуюсь чрезвычайно интересными записями русских народных северных песен. Ясные мелодии и по возможности простой гармонический язык — таковы другие элементы, к которым я буду стремиться в этой опере».
Но тут в жизнь Прокофьева, да и других выдающихся мастеров советской музыки, ворвалось пресловутое постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели». Это был позорный документ, нацеленно громивший лучшие достижения современной музыкальной культуры. Тогда же на совещании деятелей советской музыки безграмотный Жданов поучал Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Хачатуряна, по сути дела, перечеркивая все их творчество. Как водится, последовала хорошо отрепетированная травля на страницах газет и журналов.
Ко всей этой разнузданной кампании Сергей Сергеевич внешне относился довольно безразлично, но можно себе представить, сколько сил и здоровья вырвали борцы против «формализма» у больного композитора. Все без исключения «формалисты» должны были каяться в несуществующих прегрешениях. Они, принесшие советской музыке мировую славу, оказывались ее злейшими врагами. Но и в этих безвыходных условиях Прокофьев стремился, и не без успеха, сохранить чувство человеческого достоинства.
Он писал, например: «Найти мелодию, сразу понятную даже непосвященному слушателю и в то же время оригинальную, — самое трудное для композитора. Здесь его стережет целое множество опасностей: можно впасть в тривиальность или пошлость, или в перепев уже ранее сочиненного. В этом отношении сочинение более сложных мелодий гораздо легче. Бывает и так, что композитор, долго возясь со своей мелодией и выправляя ее, сам того не замечая, делает ее чрезвычайно изысканной или усложненной и уходит от простоты. В эту ловушку несомненно попал и я в процессе работы. Нужна особенная бдительность при сочинении для того, чтобы мелодия осталась простой, в то же время не превращалась в дешевую, сладкую или подражательную. Это легко говорить, но трудней исполнить, и все мои усилия будут направлены к тому, чтобы эти слова оказались не только рецептом, но чтобы я мог провести их на деле в моих последующих работах».
И уж совсем не кривил он душой, когда выступил в 1951 году с такой декларацией: «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства».
Несправедливые нападки вовсе не отразились на творческом потенциале композитора. Другое дело, что они в той или иной степени влияли на здоровье Сергея Сергеевича. Врачи стремились ограничить круг его занятий, но он просто не мог расстаться с нотными листами. По их предписанию он должен был работать на Николиной Горе не более одного часа в день, но эти указания вновь и вновь нарушались.
Под прессом постановления 1948 года Прокофьев завершал оперу «Повесть о настоящем человеке». На закрытом просмотре в Кировском театре новое сочинение (это было нетрудно предугадать) подверглось самой резкой критике. Не нашлось смельчаков, которые могли бы противостоять предписанному мнению. В этой ужасной ситуации только сам Прокофьев, больной, прошедший уже испытание хулой и хвалой, сумел сохранить удивительную жизнестойкость.
Приехав тогда в Ленинград, он остановился в гостинице «Астория». После разгромного обсуждения к нему зашел Д. Кабалевский, ожидавший неприятных объяснений. Ничего подобного: с юношеской увлеченностью Сергей Сергеевич стал показывать гостю только что сочиненную музыкальную тему Хозяйки Медной горы из нового балета «Сказ о каменном цветке». Так он увлекся «Малахитовой шкатулкой» П. Бажова. Очень быстро сочинил Прокофьев свою последнюю музыкальную сказку.
Как пишет музыковед Н. Савкина, «ни в одном из прокофьевских сочинений не звучит с такой силой тема прекрасной и могущественной природы. Гимн русской земле с ее несметными сокровищами, красота человека, ценителя этих сокровищ, умельца, сохраняющего и несущего их людям, — таков последний балет Прокофьева». Пройдет несколько лет, и этот чудесный балет займет достойное место на афишах музыкальных театров страны.
«Сказ о каменном цветке» — одна из жемчужин творческого взлета последних лет. Кажется, Прокофьев спешит высказаться, раскрыть людям богатства своей светлой души. Одно за другим рождаются новые произведения в разных жанрах. Весной 1949 года Мстислав Ростропович и Святослав Рихтер играют виолончельную сонату, в радиоэфире впервые звучит детская сюита «Зимний костер» на стихи Самуила Маршака («Очень образно и остроумно», — отмечает в своем дневнике Н. Мясковский).
На этом не обрывается сотрудничество с известным поэтом. На исходе 1950 года в Колонном зале Дома союзов хор мальчиков Московского хорового училища, оркестр и хор Всесоюзного радио под управлением С. Самосуда, солисты Зара Долуханова и юный Женя Таланов исполняют ораторию «На страже мира». Композитор говорил: «Я эту тему не искал и не выбирал. Она выросла из самой жизни, из ее кипения, из всего того, что окружает, волнует и меня, и других людей. Я хотел выразить в этой вещи свои мысли о мире и о войне, уверенность, что войны не будет, что народы земли отстоят мир, пасут цивилизацию, детей, наше будущее».
В апреле 1951 года весьма скромно было отмечено 60-летие великого музыканта. Сам юбиляр на торжественном вечере присутствовать из-за болезни не мог. Зато он преподнес прекрасный подарок себе и слушателям — Святослав Рихтер впервые исполнил Девятую фортепианную сонату.
Дружба с лучшими исполнителями всегда скрашивала творческую жизнь Прокофьева. На склоне лет у него сложились самые теплые отношения с молодым Мстиславом Ростроповичем. Разница в годах не мешала их полному взаимопониманию. Союз двух замечательных художников привел к рождению выдающегося произведения. Симфония-концерт для виолончели с оркестром (так стал называться Второй виолончельный концерт после авторской редактуры) принадлежит к лучшим страницам мировой инструментальной литературы.
В этом сочинении Прокофьев использовал и некоторые моменты из своего Первого виолончельного концерта, относящегося к середине тридцатых годов. Премьера Симфонии-концерта (18 февраля 1952 года) отмечена и не совсем обычным составом исполнителей: сольную партию блистательно играл Ростропович, а Московским молодежным оркестром дирижировал Рихтер. Как это нередко случалось с Прокофьевым, гениальную музыку не смогли сразу оценить ни специалисты, ни слушатели. Но с годами, вслед за Ростроповичем, все смогли убедиться, что эта масштабная партитура представляет собой весомый вклад в музыкальную классику XX столетия.
И наконец, «лирическое послесловие», венчающее творческое наследие мастера, — Седьмая симфония. Еще раз обратимся к словам И. Нестьева: «Чарует в симфонии прежде всего богатство мелодии, льющейся непринужденно, насыщающей буквально все разделы произведения вплоть до перехода, связок, вступительных и разработочных кусков. В ведущих темах симфонии трепетно и сильно бьется пульс нашего времени; особенно это касается главной темы произведения — побочной партии первой части, повторяющейся в коде финала; это тема мужества и безграничной мощи человеческого духа, тема любви к жизни; в ней дышат „спокойствие и уверенность в своих силах и в своем будущем“, о которых писал композитор в своей последней статье. Слушателя чарует не только красота основных образов симфонии, но и особая самобытность их воплощения. При всей простоте изложения, нетрудно обнаружить характерную манеру Прокофьева в каждом изгибе мелодии, в лукавых ритмических акцентах, в свободных, по-русски распевных полифонических подголосках, в излюбленных модуляционных сдвигах и отклонениях, в оркестровке, богатой чистыми тембрами, изукрашенной тонкими красочными мазками».
Прослушивание симфонии прошло удачно. Кажется, на сей раз (случай исключительный!) обошлось без разноголосицы в оценке новой музыки. Кабалевский рассказывал о визите на Николину Гору: «Сергей Сергеевич чувствовал себя плохо и лежал в постели. И как радостно заулыбался он, как сразу оживился, когда услышал об ее успехе. Несколько раз переспрашивал он нас, словно боясь, что наши слова вызваны лишь желанием подкрепить его силы, подбодрить его».
Но Прокофьев еще стал свидетелем успеха своей лебединой песни. 11 октября 1952 года Седьмая симфония звучала в Колонном зале Дома союзов под управлением С. Самосуда. А лишь спустя пять лет ее автор был посмертно удостоен Ленинской премии. Правда торжествует, но слишком часто с печальным опозданием. 5 марта 1953 года Сергей Сергеевич Прокофьев умер.
Л. Григорьев, Я. Платек
Источник: «В мире музыки», 1991 г.

